Виды и характеристики парашютов. История парашютизма в ссср

1946 год
Июнь – Постановлением Совета Министров СССР от 3 июня и приказом министра Вооруженных Сил СССР от 10 июня Воздушно-десантные войска выведены из состава ВВС, включены в состав войск резерва ВГК и подчинены непосредственно министру ВС СССР. Вновь учреждена должность командующего ВДВ ВС СССР и определены ее обязанности. Командующим ВДВ назначен генерал-полковник В.В. Глаголев.
На формирование ВДВ направлены 8, 15, 37, 38, 39-й гвардейские стрелковые корпуса в составе 76, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107 и 114-й гвардейских стрелковых дивизий. Переформированные части и соединения сохраняли почетные наименования и награды за боевые отличия, полученные на фронтах Великой Отечественной войны. 5, 8, 24-я воздушно-десантные бригады и специальные части были переданы на доукомплектование войск.
В состав ВДВ вошли 1 и 12-я авиатранспортные дивизии, а также дополнительно сформированные для войск 3, 6 и 281-я авиатранспортные дивизии.
1948 год
Дополнительно развернуты пять воздушно-десантных дивизий. Все имевшиеся и вновь созданные соединения объединены в Воздушно-десантную армию (ВДА). 37-й воздушно-десантный корпус и 1-я авиатранспортная дивизия переданы в непосредственное подчинение Командующего Дальневосточным военным округом.
Создан новый прибор КАП-3 (для принудительного раскрытия парашюта). Он спас жизнь многим сотням парашютистов.
На вооружение ВДВ принят парашют ПД-47 (конструкторы Н.А. Лобанов, М.А. Алексеев, А.И. Зигаев). Купол, изготовленный из перкаля, имел квадратную форму площадью 71,8 кв. м; вес парашюта – 16 кг.
1949 год
На вооружение ВДВ принята авиадесантная самоходная установка АСУ-76, разработанная конструкторским бюро, руководимым Н.А. Астровым.
1950 год
28 апреля – Совет Министров СССР принял постановление «О создании надежно действующего десантного парашюта». Перед научно-исследовательским институтом парашютно-десантной службы и заводом № 9 Министерства легкой промышленности ставились задачи по разработке новых людских десантных парашютных систем для применения их на скоростях полета до 500 км/ч и по созданию основного десантного парашюта из ткани искусственного волокна для применения на скорости полета до 350 км/ч.
1951 год
На вооружение ВДВ поступила более легкая по сравнению с АСУ-76 артиллерийская самоходная установка АСУ-57.
1953 год
Апрель – решением Совета Министров и МО СССР управление ВДА реорганизовано в управление ВДВ, воздушно-десантные дивизии (за исключением 103-й и 104-й) переведены на штаты трехполкового состава. В 1955-1956 гг. управления ВДК, 11, 21, 100, 114-я, в 1959 г. – 107-я и в 1959 г. – 31-я гвардейские воздушно-десантные дивизии были расформированы.
1954 год
Июнь – командующим ВДВ назначен генерал-лейтенант В.Ф. Маргелов, который придал новый мощный импульс развитию Воздушно-десантных войск.
1955 год
Апрель – транспортно-десантная авиация выведена из состава ВДВ и на ее базе создана военно-транспортная авиация (ВТА) ВВС.
Принят на снабжение ВДВ людской десантный парашют Д-1, массой 16,5 кг, изготовленный из перкаля «Б». Парашют позволял совершать прыжки из самолетов на скорости до 350 км/ч, обеспечивал устойчивое снижение парашютиста и скорость приземления у земли до 5 м/с.
1956 год
Апрель – Воздушно-десантные войска подчинены Главному штабу Сухопутных войск (в 1964 г. после его упразднения ВДВ вновь подчинены непосредственно Министру обороны СССР).
10 сентября на опытном учении, где изучались возможности действия войск в условиях ядерной войны, вслед за реальным ядерным взрывом мощностью 40 килотонн в район 500-600 метров от эпицентра взрыва через 40 минут на вертолетах Ми-4 высажен 2-й парашютно-десантный батальон 345-го парашютно-десантного полка 105-й воздушно-десантной дивизии. Всего было высажено 272 человека с легким вооружением. Десантники после высадки произвели быстрый захват и удержание объекта, выполнили боевую стрельбу при отражении контратаки противника. Учение подтвердило, как считали специалисты того времени, возрастающую роль ВДВ в быстром и эффективном разгроме противника с применением ядерных ударов.
1–7 ноября – участие ВДВ Вооруженных Сил СССР в венгерских событиях. Для выполнения боевых задач привлекались части 7-й (80-й и 108-й парашютно-десантные полки) и 31-й (114-й и 381-й парашютно-десантные полки) воздушно-десантных дивизий.
1957 год
Выпущен тяжелый транспортный вертолет Ми-6. Транспортные возможности вертолета: 61 десантник или до 12 тонн груза, в том числе 8 тонн на внешней подвеске. При максимальной скорости 300 км/ч вертолет способен подниматься до 4500 метров, дальность полета в зависимости от загрузки составляла от 300 до 900 км; на вооружении – 12,7-мм пулемет.
В Воздушно-десантные войска поступил Ан-12. Это был универсальный средний военно-транспортный самолет. Для десантирования войск и техники он имел все, что необходимо. Потолок самолета 10000 метров. Ан-8 и Ан-12 сменили к концу 1950-х гг. применявшиеся ранее для десантирования самолеты Ли-2 и Ил-14.
1958 год
1-й парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии десантировали на опытных тактических учениях в сложных климатических условиях Заполярья. Отрабатывались задачи захвата и удержания важного района. Десантники показали образцы высокой боевой выучки, мужества и закалки.
1959 год
Май – Алма-Атинское воздушно-десантное училище передислоцировано в Рязань и объединено с Рязанским высшим общевойсковым командным Краснознаменным училищем в одно – Рязанское высшее общевойсковое Краснознаменное командное училище. На него возлагалась подготовка кадров для ВДВ. 11 августа – на снабжение ВДВ и ВВС принят модернизированный парашют Д-1-8. Авторами качественно нового парашюта были братья-десантники Николай, Владимир и Анатолий Доронины.
В конце 1950-х гг. на вооружении воздушно-десантных войск появилась парашютная платформа ПП-127. Она была предназначена для десантирования парашютным способом грузов, вес которых превышал 4,6 тысяч кг. На этой платформе можно было десантировать все виды артиллерии, находящиеся на вооружении ВДВ, автотранспорт, радиостанции, технику инженерных частей и подразделений химзащиты. Позже на смену ПП-127 пришла плат- форма ПП-128, позволяющая сбрасывать с парашютом различные грузы и боевую технику весом до 6,7 тысяч кг.
1963 год
1 июня – приказом главнокомандующего Сухопутными войсками ВС СССР при Рязанском высшем общевойсковом командном Краснознаменном училище сформирована спортивно-парашютная команда. 1 августа 1966 г. она преобразована в Центральный спортивно-парашютный клуб (ЦСПК) ВДВ.
1964 год
5–15 сентября в Одессе прошли соревнования на первенство Вооруженных Сил СССР по парашютному спорту. На этих соревнованиях команда ВДВ впервые заняла первое место, завоевав 22 медали из 30 разыгрываемых.
1965 год
Февраль – первый полет совершил воздушный гигант – самолет Ан-12 («Антей»). Его взлетный вес – 250 тонн. В год своего создания он был самым большим транспортным самолетом в мире. Самолет обладал большой дальностью и продолжительностью полета. В его грузовой кабине (33,4х4х5 метров) могли разместиться основные виды техники Сухопутных войск ВС
СССР. В мае самолет был удостоен премии на ХХV международном салоне аэронавтики и космоса в Париже.
1967 год
15 сентября-1 октября – прошли общевойсковые маневры войск БВО, ПрикВО и некоторых других военных округов на Украине под условным названием «Днепр». В них участвовали 76-я и 103-я воздушно-десантные дивизии. Десантники продемонстрировали высокую ратную выучку, заслужили благодарность командования.
Впервые в массовом масштабе использовались многокупольные и парашютно-реактивные системы, что позволяло выбросить в тыл дивизию со своей штатной техникой.
1968 год
27 июля 36 спортсменов совершили прыжок на Памир на плато на высоте 6,1 тысячи метров. Десантирование прошло успешно. Бесценный опыт вошел в методики применения десантов при захватах горных перевалов и боевых действий в горах.
21 августа – заявление ТАСС о вступлении на территорию Чехословакии воинских подразделений СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. По заданию Советского правительства в операции по стабилизации политической обстановки в ЧССР (возникла угроза отхода чехословацкого руководства от коммунистической ориентации и выхода ее из Варшавского Договора) участвовали 7-я и 103-я воздушно-десантные дивизии. Операция прошла молниеносно. Личный состав показал пример стойкости и железной выдержки, не поддаваясь на провокации со стороны отдельных групп местного населения.
1969 год
На вооружение ВДВ поступила боевая машина десанта БМД-1. Масса – 7,6 тонн; экипаж – 7 человек; вооружение: 73-мм пушка и три 7,62-мм пулемета; максимальная скорость на суше – 61 км/ч, на плаву – 9-10 км/ч. На базе БМД-1 позднее были разработаны: – бронетранспортер десантный БТР-Д; – бронетранспортер для противотанковых комплексов «Фагот» БТР-РД (условное наименование «Робот»); – БТР-3 Д «Скрежет» для перевозки расчетов зенитно-ракетных комплексов; – специальные: для аппаратуры связи, для перевозки раненых и ремонтно-эвакуационные.
В конце 1960-х гг. основной парашют Д-1-8 с перкалевым куполом заменил капроновый Д-5, который был значительно меньше и легче своего предшественника и гораздо проще в укладке. На протяжении времени он совершенствовался (выпускалось несколько его серий). Основным парашютом стал Д-6. его вес – 11,6 кг; площадь купола – 83 м2; максимальная скорость снижения у земли – до 5 м/с.
1970 год
Март – прошли общевойсковые маневры войск ЛВО, МВО, СКВО, БВО, ПрибВО в Белоруссии под условным наименованием «Двина». В них участвовала 76-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор В.Н. Костылев). Всего за 22 минуты из 280-ти самолетов Ан-12 и 4-х самолетов Ан-22 («Антей») десантировались 8 тысяч десантников и 152 единицы боевой техники.
1971 год
9–19 июня прошли крупные войсковые учения в Крыму под условным наименованием «Юг». В них участвовала 98-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор Г.К. Самойленко). Десантники показали образцы высокой боевой выучки, мужества и самоотверженности.
1972 год
3-11 июля прошли международные соревнования по парашютному спорту в г. Фонтенбло (Франция). В них участвовали команды Англии, Бельгии, Италии, Франции (две команды), ЧССР, ФРГ, США, ПНР и СССР. Советские парашютисты заняли первое место и завоевали кубок (находится в Рязанском музее истории ВДВ).
1973 год
5 января впервые в мире внутри БМД-1 на парашютно-платформенных средствах десантирован экипаж в составе майора Л. Зуева и старшего лейтенанта А. Маргелова. Боевая машина сбрасывалась с Ан-12, спускалась на пяти куполах. Такая система десантирования БМД-1 вместе с экипажем получила название «Кентавр».
1974 год
27 августа-1 сентября на базе 104-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерала армии В.Ф. Маргелова состоялись сборы руководящего состава ВДВ с проведением опытного тактического учения, на котором впервые было десантировано 108 объектов тяжелой техники, в том числе 122-мм гаубицы Д-30 с двумя членами экипажа в кабине совместного десантирования.
Военно-транспортная авиация получила новый самолет Ил-76 (генеральный конструктор Г.В. Новожилов). Это всепогодный самолет. На борту установлена аппаратура, обеспечивающая точное десантирование парашютным способом людей и грузов в сложных метеорологических условиях днем и ночью, с больших и малых высот. Экипаж – 7 человек. Дальность полета: с нормальной загрузкой – 3500 км; с максимальной – 2000 км. Потолок – 12000 м. Скорость полета: максимальная – 820 км/ч; крейсерская – 740 км/ч. Количество перевозимого личного состава: при парашютном десантировании – 115 человек; при посадочном десантировании – 225 человек. Ил-76 – самолет принципиально новой схемы. Под крылом на пилонах четыре реактивных двигателя. Имеет высоко поднятое хвостовое оперение и низко поставленное шасси тележечного типа с двенадцатью парами колес. На взлете разбег небольшой, на посадке пробег короткий.
1975 год
Март – в учениях «Весна-75» участвовала 98-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор А.А. Соколов). Принят на вооружение ВДВ бронетранспортер БТР-Д. Он стал базовой машиной для семейства боевых машин ВДВ.
1976 год
23 января успешно испытана парашютно-реактивная система «Реактавр» (реактивный кентавр). Вместо пяти куполов «Кентавра» на «Реактавре» был установлен один купол. Скорость десантирования новой системы стала в четыре раза выше. Это многократно снижало уязвимость боевой техники в полете.
1978 год
Февраль – в общевойсковых учениях «Березина» (Белоруссия) принял участие 350-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й воздушно-десантной дивизии. Впервые десантная часть в полном составе с техникой и вооружением десантировалась с самолетов Ил-76. Учения явились школой переподготовки к массовому освоению ВДВ новых самолетов.
1979 год
Февраль – 106-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор Е.Н. Подколзин) приняла участие в учениях на территории Монголии. Учения проходили в сложных условиях: голая каменная пустыня с разницей температуры дня и ночи в 20-30 градусов. В день десантирования порывы ветра достигали 40 м/с.
Осенью расформирована 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (дислоцировалась в Узбекистане и Киргизии). На базе дивизии сформировано девять десантно-штурмовых бригад, вошедших в состав Сухопутных войск.
1980 год
На базе БТР-Д создано самоходное артиллерийское орудие «Нона». Орудие размещалось на шасси бронетранспортера БТР-Д.
1981 год
На вооружение артиллерийских подразделений ВДВ поступило 120-мм самоходное орудие 2 СУ («Нона-С»).
1984 год
Начато серийное производство боевой машины десанта БМД-2, отличающейся от БМД-1 комплексами вооружения (73-мм орудие 2А28 «Гром» на БМД-1 и 30-мм автоматическая пушка 2А42 на БМД-2). Поступила на вооружение в 1985 году.
1986 год
Военно-транспортная авиация получила новый самолет Ан-124 «Руслан». Экипаж – 7 человек; количество мест для парашютистов – 440, для солдат – 880; дальность полета с нормальной загрузкой – 6800 км, с максимальной загрузкой – 7500 км; потолок – 11000 км.
В середине 1980-х гг. на вооружение ВДВ поступила самоходная противотанковая 125-мм пушка.
1988 год
29 февраля 137-й парашютно-десантный полк (командир – подполковник В. Хацкевич) 106-й воздушно-десантной дивизии высадился на аэродроме близ Баку. Совершив марш в Сумгаит, десантники восстановили государственную границу, взяли под контроль государственные учреждения, остановили насилие, обезвредили бандитские группировки.
Июль – в Ереван переброшены части 76-й и 98-й воздушно-десантных дивизий для предотвращения грабежей, убийств азербайджанского населения, проживавшего вокруг Еревана и на границе Армении и Азербайджана и для создания нормальных условий мирного решения проблем.
В Степанакерт и Баку прибыли части 104-й воздушно-десантной дивизии с целью стабилизации обстановки в городах.
22–23 ноября в Баку высадились 106-я воздушно-десантная дивизия и 119-й парашютно-десантный полк 7-й воздушно-десантной дивизии, а в г. Кировабаде – 234-й парашютно-десантный полк 76-й воздушно-десантной дивизии.
Группировка ВДВ в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе скоординированными действиями прекратила кровавые столкновения в г. Кировабаде, на границе с Нагорным Карабахом и на границе между Арменией и Азербайджаном.
7–8 декабря – артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии прибыл в г. Спитак, а 21-я десантно-штурмовая бригада ВДВ – в Ленинакан для оказания помощи населению, пострадавшему от землетрясения 7 декабря. Для предотвращения грабежей, насилия и создания благоприятных условий в организации спасательных работ в Ленинакан переброшен 234-й парашютно-десантный полк 76-й воздушно-десантной дивизии. 299-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии взял под контроль аэропорт Еревана Звартноц и основные дороги, ведущие в район бедствия.
44-я учебная воздушно-десантная дивизия (днем ее рождения считается 17 сентября 1960 года) переименована в 242-й учебный центр по подготовке младших специалистов ВДВ. В 1993 г. Учебный центр передислоцирован в города Омск и Ишим.
1989 год
7–8 апреля – 328-й парашютно-десантный полк 104-й воздушно-десантной дивизии, совершив многокилометровый марш, вошел в Тбилиси и взял под охрану правительственные учреждения.
Декабрь – в состав ВДВ вошли 14 десантно-штурмовых бригад, (сформированных в 1960-80-е гг. в составе Сухопутных войск), с апреля 1990 г. – отдельные воздушно-десантные бригады.
1990 год
12–20 января – группировка Воздушно-десантных войск (части 106, 76 и 98-й воздушно-десантных дивизий, 56-я и 38-я воздушно-десантные бригады) взяли под контроль ситуацию в Баку, Ереване и Нагорном Карабахе. Было восстановлено государственное управление в Азербайджане и Армении, государственная граница СССР.
14 февраля 299-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии переброшен по воздуху из Еревана, где он поддерживал порядок, в Душанбе. В начале февраля ситуация в Душанбе и некоторых районах Таджикистана обострилась, начались бесчинства. Десантники сходу приступили к выполнению задачи. Они взяли под охрану аэропорт, объекты пищевой промышленности, водозабор, объекты энергетики и нефтебазы, изолировали места формирования и пути движения погромщиков, взяли под контроль транспортные магистрали, ведущие в город.
4 мая 1990 года ушел из жизни генерал армии В.Ф. Маргелов, с именем которого связаны модернизация Воздушно-десантных войск Советского Союза, превращение их в мощную военную силу.
Июнь – группировка Воздушно-десантных войск (части 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий, 56-я воздушно-десантная бригада, 387-й отдельный парашютно-десантный полк) взяла под контроль обстановку в г. Фергане, Оше, Андижане, Джалал-Абаде, заняли Кара-Суу, горные дороги и перевалы на всей территории конфликта, предотвратили массовые убийства, поджоги, разрушения, грабежи.
Поступила на вооружение ВДВ боевая машина десанта БМД-3 (генеральный конструктор А. Шабалин). Это качественно иная боевая машина: она десантируется как посадочным, так и парашютным способом с боевым расчетом, размещенным внутри. Машина оснащена курсовым автоматическим гранатометом АГ-17 (установлен в левой автономной установке), 30-мм стабилизированной автоматической пушкой и ПТУРами.
26 июля 1930 года советские летчики и механики - ведь парашютистов как таковых тогда еще не было - совершили первые прыжки с парашютом. Произошло это на аэродроме города Воронежа. Пожалуй, лучше всех в нашей стране об этом может рассказать легендарная парашютистка Бернадета Васина, что она, собственно и сделала в своей поистине уникальной книге “Испытание небом”. Так как же начинался отечественный парашютизм?
 : «Тридцатые годы. Это начало развития в России и в других республиках Советского Союза массового парашютного спорта. Это годы создания Воздушно-десантных войск, авиационной и парашютной техники, необходимой материально-технической базы; открытие широкой сети аэроклубов, кружков и секций при заводах, учебных заведениях; возведение парашютных вышек в парках культуры и отдыха; установление мировых рекордов. К счастью, мне довелось встретиться с людьми того поколения, которые проложили нам путь в небо, помогли приобщиться к самому замечательному виду спорта - парашютному. Это были замечательные люди - ответственные за важные государственные задачи, безопасность жизни людей летных профессий, увлеченные идеей развития массового парашютного спорта в стране, скромные.
: «Тридцатые годы. Это начало развития в России и в других республиках Советского Союза массового парашютного спорта. Это годы создания Воздушно-десантных войск, авиационной и парашютной техники, необходимой материально-технической базы; открытие широкой сети аэроклубов, кружков и секций при заводах, учебных заведениях; возведение парашютных вышек в парках культуры и отдыха; установление мировых рекордов. К счастью, мне довелось встретиться с людьми того поколения, которые проложили нам путь в небо, помогли приобщиться к самому замечательному виду спорта - парашютному. Это были замечательные люди - ответственные за важные государственные задачи, безопасность жизни людей летных профессий, увлеченные идеей развития массового парашютного спорта в стране, скромные.
Леонид Минов, Михаил Савицкий, Лидия Кулешова, Нина Камнева, Константин Кайтанов, Галина Пясецкая, Иван Лисов, Николай Лобанов, Игорь Глушков, Иосиф Явич - они были первыми, кто, испытывая все на себе, открывал нам путь в небо. Мне посчастливилось быть лично знакомой с ними, учиться у них, беседовать с ними, присутствовать вместе на разных мероприятиях. Их примеру, как и автор этих строк, последовали миллионы юношей и девушек, стали мастерами спорта, рекордсменами и чемпионами мира.
26 июля 1930 года
Все началось в этот день. Под руководством военного летчика Леонида Минова в Воронеже были совершены первые тренировочные прыжки. С Леонидом Григорьевичем мы ближе познакомились в середине шестидесятых годов. Он активно участвовал в проведении соревнований разного масштаба, руководил Федерацией парашютного спорта города Москвы. Раньше я много слышала о нем от начальника Вильнюсского аэроклуба 3. Явича, участника некоторых парашютных событий тридцатых годов, хорошо знавшего Л. Минова. Но нам, спортсменам, тогда Леонид Григорьевич казался таким недоступным, робели даже подойти к нему. Лишь позже журналистская тропа привела к Леониду Минову, я побывала у него дома, посмотрела его архивы, награды, разные сувениры, относящиеся к парашютному спорту. Он, несмотря на довольно суровый вид, оказался очень общительным и обаятельным человеком». <…>
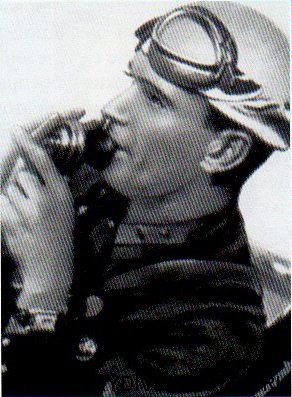 Рассказывает : «26 июля 1930 года участники сборов Военно-Воздушных Сил Московского военного округа собрались на аэродроме под Воронежем. Мне предстояло выполнить показательный прыжок. Конечно, все, кто был на летном поле, считали меня асом в этом деле. Ведь я был единственным человеком, который уже получил парашютное крещение и прыгал не раз, не два, а имел целых три прыжка! И занятое мною призовое место на соревнованиях сильнейших парашютистов США, по-видимому, казалось присутствующим чем-то недосягаемым. От пристальных взглядов, повышенного внимания я смущался, волновался еще больше, но старался ничем не выдать себя. Мне хотелось выполнить прыжок как можно лучше, чтобы заинтересовать летчиков, вселить в них уверенность, зажечь их своим примером.
Рассказывает : «26 июля 1930 года участники сборов Военно-Воздушных Сил Московского военного округа собрались на аэродроме под Воронежем. Мне предстояло выполнить показательный прыжок. Конечно, все, кто был на летном поле, считали меня асом в этом деле. Ведь я был единственным человеком, который уже получил парашютное крещение и прыгал не раз, не два, а имел целых три прыжка! И занятое мною призовое место на соревнованиях сильнейших парашютистов США, по-видимому, казалось присутствующим чем-то недосягаемым. От пристальных взглядов, повышенного внимания я смущался, волновался еще больше, но старался ничем не выдать себя. Мне хотелось выполнить прыжок как можно лучше, чтобы заинтересовать летчиков, вселить в них уверенность, зажечь их своим примером.
Вместе со мной готовился к прыжку летчик Яков Мошковский, назначенный на сборах моим помощником. Больше желающих пока не было. Мой прыжок действительно удался. Приземлился я легко, недалеко от зрителей, даже на ногах устоял. Встретили аплодисментами. Откуда-то взявшаяся девушка вручила мне букет полевых ромашек.
«А как там Мошковский?» - подумал я. Самолет заходит на курс выброски. В проеме двери хорошо видна фигура Якова Давидовича. Уже пора бы прыгать. Пора! Но он по-прежнему стоит в дверях, видимо, не решаясь броситься вниз. Еще секунда, вторая… Наконец-то! Над падающим человеком взметнулся белый шлейф и тут же превратился в тугой купол парашюта.
Ура-а-а… - раздалось вокруг.
Я тоже кричал от радости. И как же не радоваться! Представьте: первый прыжок! Сам летчик рассчитывал время, самому ему и парашют пришлось раскрыть, ведь никаких приборов, даже вытяжной веревки не было. Многие летчики, видя нас с Мошковским целыми и невредимыми, тоже изъявили желание прыгнуть. В тот день совершили прыжки командир эскадрильи А. Стоилов, его помощник К. Затонский, летчики И. Поваляев и И. Мухин. А через три дня в рядах советских парашютистов насчитывалось 30 человек». <…>
Первый опыт, полученный в 1930 году, дал толчок для дальнейшего развития парашютизма в Советском Союзе. Многие летчики, техники изъявляли желание совершить прыжки с парашютом. В 1928 году при Научно-исследовательском институте Военно-Воздушных Сил (ВВС) были организованы курсы по подготовке инструкторов парашютного дела. Начальником курса стал Савицкий, который знакомил слушателей с историей применения парашютов, методикой их испытания, укладкой. В этом же году инженеру-механику М. А. Савицкому поручают организовать производство парашютов. Смелые прыжки в Воронеже открыли большие возможности применения парашюта не только как спасательного средства. Но нужны были свои, советские, парашюты, чтобы воплотить в жизнь намеченные планы. Большой вклад в создание отечественных парашютов внес Михаил Алексеевич Савицкий. <…>
 С Лидией Кулешовой
мы познакомилась в конце шестидесятых годов в редакции «Крыльев Родины». Лидия выглядела замечательно: ее стройная фигура, светящиеся глаза, мягкая улыбка напоминали ту азартную девчонку, что на фотографии, снятую в далекие тридцатые годы перед первым прыжком. Я попросила Лидию рассказать о своем прыжке, как она себя чувствовала, что испытала в воздухе, волновалась ли…
С Лидией Кулешовой
мы познакомилась в конце шестидесятых годов в редакции «Крыльев Родины». Лидия выглядела замечательно: ее стройная фигура, светящиеся глаза, мягкая улыбка напоминали ту азартную девчонку, что на фотографии, снятую в далекие тридцатые годы перед первым прыжком. Я попросила Лидию рассказать о своем прыжке, как она себя чувствовала, что испытала в воздухе, волновалась ли…
Волновалась ли? - улыбнулась Лидия, - а как иначе! Перед прыжком надо мной мужчины подшучивали: «Смотри не сломай ногу, а то замуж не возьмем». Да и лежать в этой люльке страшновато и неудобно. Ничего не видно. Не знаешь, ни какая высота, ни где ты летишь, и каждую секунду ждешь: вот-вот вывалишься вниз. Сейчас спортсмены прыгают с двумя парашютами - основным и запасным. Тогда я имела только один. Валерий Павлович Чкалов уговаривал меня не прыгать, но, поняв, что старается напрасно, стал подбадривать.
Сколько времени поднимались на высоту - не знаю, но показалось - целую вечность. Очень тяжело ждать и не знать, когда вывалишься. Вдруг что-то щелкнуло, и я провалилась вниз. Холодный поток воздуха и сильный динамический удар, от которого искры посыпались из глаз, привели меня в чувство - я увидела огромный купол над головой… После прыжка, конечно же, меня радостно встречали, обнимали, целовали, задавали десятки вопросов. А я чувствовала себя на седьмом небе, такого счастья я, наверное, не испытала никогда…
Позже, 18 августа 1933 г., Лидия Кулешова участвовала в массовом десанте на первом воздушном параде, проходившем на Центральном аэродроме… Л. С. Кулешова не забыла тех памятных дней 1930-х годов, когда советский парашютизм, набирая темпы, превратился поистине в массовый вид спорта. Она на протяжении более 40 лет не раз бывала на соревнованиях, и с присушим ей задором рассказывала молодежи о первопроходцах, о незабываемых страницах истории и развития парашютизма в стране.
Вслед за Кулешовой 14 июля 1931 года прыжок таким же способом выполнила и Л. Гроховская - жена начальника ОКБ, а через месяц, 19 августа, в Гатчине под Ленинградом совершили прыжки еще две женщины - В. Федорова и И. Чиркова. В дальнейшем от прыжков из подкрыльных люлек пришлось отказаться по морально-психологическим причинам, они использовались лишь для сброса различных малогабаритных грузов. Идеи Гроховского легли в основу разработки грузовых парашютов для сброса танков, автомашин, пушек. <…>
Все иллюстрации - из книги Бернадеты Васиной “Испытание небом” (Москва, 2010).
5 августа Ставка Верховного Главнокомандования направила директиву командованию Юго-Западного направления, в которой указывалось: «…Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот» .
Черноморский флот принимал необходимые меры по отражению ударов морских и воздушных сил противника, но наибольшая угроза городу исходила со стороны суши, так как на море господствовал советский ВМФ. Поэтому еще в конце июня командование базы, партийные структуры и администрация Одессы организовали строительство оборонительных сооружений на подступах к ней. Особенно большой размах работы приняли в первых числах августа.
Одновременно флот вел подготовку к содействию войскам Приморской армии с суши. Береговые батареи 40-го подвижного артдивизиона были переведены на позиции у Люстдорфа, Дофиновки, Крыжановки и других пунктов. Стационарные береговые батареи готовились к отражению наступления противника с сухопутного направления. Находившиеся в Одессе корабли также отрабатывали задачи артиллерийской поддержки сухопутных войск.
Для захвата Одессы немецко-румынское командование выделило 4-ю румынскую армию, состав которой непрерывно увеличивался. Действия наземных вражеских войск поддерживались крупными силами авиации.
Приморская армия уступала противнику по численности. Поэтому формирование частей для пополнения ее войск за счет ресурсов Черноморского флота и людских резервов города стало обычной практикой. В начале августа таким образом были сформированы два полка морской пехоты - 1-й полк (командир - майор И. А. Морозов, военком - старший политрук В. А. Митраков) и 2-й полк (командир - полковник Я. И. Осипов, военком - старший политрук В. А. Тарабарин). В дальнейшем для защиты Одессы было создано еще несколько отрядов моряков.
Тем не менее противнику удалось создать необходимое превосходство в силах, рассчитывая овладеть Одессой с ходу. 13 августа ему удалось выйти к берегу моря в районе Сычавки и полностью изолировать город с суши. Но большего добиться тогда он не смог. Все последующие атаки румынских войск были отбиты.
В целях улучшения управления силами и организации тесного взаимодействия сухопутных войск с кораблями и береговой артиллерией приказом командующего Приморской армией одесский плацдарм 13 августа был разделен на три сектора обороны.
Оборона Южного сектора (от берега моря юго-западнее Одессы до линии Одесса, Вакаржаны, Секретаревка) была возложена на два полка 25-й стрелковой Чапаевской дивизии (командир дивизии - полковник А. С. Захарченко, затем - генерал-майор И. Е. Петров) и приданные ей подразделения, Западного (от разграничительной линии до Хаджибейского лимана) - на 95-ю стрелковую дивизию (командир - генерал-майор В. Ф. Воробьев) и Восточного (от разграничительной линии слева до берега моря восточнее Одессы) - на группу войск под командованием комбрига С. Ф. Монахова, в состав которой входили 54-й полк Чапаевской дивизии, 1-й полк морской пехоты, 26-й полк НКВД, батальон 136-го запасного полка и два истребительных батальона. Позднее из различных частей Восточного сектора обороны была сформирована 421-я Одесская стрелковая дивизия (командир - полковник Г. И. Коченов).
Обстановка под Одессой осложнилась, когда противник, не добившись успеха в наступлении по всему фронту, сосредоточил свои усилия на флангах обороны города.
В упорных боях 15–18 августа румынским частям удалось прорвать фронт Южного сектора на участке Кагарлык, Беляевка и несколько потеснить войска Восточного сектора. Однако и на этот раз прорваться к Одессе не удалось, но с вынужденным отходом защитников города на его ближние подступы еще более увеличился отрыв Приморской армии от основных сил Южного фронта. В результате возросли трудности в управлении обороной, в снабжении войск и организации их взаимодействия с флотом. Поэтому командующий войсками Юго-Западного направления обратился в Ставку с ходатайством о переподчинении Приморской армии Черноморскому флоту. С 20 августа она была выведена из состава Южного фронта и стала именоваться Отдельной Приморской армией.
19 августа решением Ставки был образован Одесский оборонительный район (OOP) с подчинением его Военному совету Черноморского флота, на который целиком возлагалась ответственность за дальнейшую оборону Одессы. В состав ООРа вошли войска Отдельной Приморской армии и Одесской военно-морской базы с приданным ей корабельным составом. Командующим ООРа был назначен контр-адмирал Г. В. Жуков, его заместителем по сухопутной обороне - генерал-лейтенант Г. П. Софронов (к концу обороны он заболел и был сменен генерал-майором И. Е. Петровым), членами Военного совета - бригадный комиссар И. И. Азаров, дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин и несколько позднее - первый секретарь Одесского обкома партии А. Г. Колыбанов .
Тем временем румынским войскам удалось в Восточном секторе подойти к окраине города, 25 августа овладев Чебанкой и Новой Дофиновкой. Здесь они установили батарею дальнобойной артиллерии и начали обстреливать акваторию Одесского порта, подходы к нему и район временных пристаней у Аркадии и Золотого пляжа.
К середине сентября обстановка под Одессой стала особенно напряженной. Противник, подтянув свежие войска, усилил давление на левый фланг обороны. Левофланговые части Южного сектора вынуждены были отойти на восточный берег Сухого лимана. Неприятельские артиллеристы получили возможность обстреливать город не только с северо-востока, но и с юго-запада.
В ночь на 14 сентября Военный совет OOP направил в адрес Ставки Верховного Главнокомандования, наркома Военно-Морского флота и Военного совета Черноморского флота телеграмму, в которой информировал о дальнейшем обострении положения и просил оказать помощь оборонительному району. 15 сентября поступил ответ из Москвы: «Передайте просьбу Ставки Верховного Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6–7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения… И. Сталин» . Эта телеграмма Ставки сыграла огромную роль в дальнейшей обороне Одессы. «Каждый из нас, - вспоминал позднее командующий OOP Г. В. Жуков, - готов был буквально на все, чтобы с честью выполнить просьбу Ставки - приказ Родины» .
Чтобы отбросить румынские войска за Аджалыкский лиман и выбить их с позиций в районе Чебанки, Военный совет Черноморского флота решил нанести контрудар силами 421-й и 157-й стрелковых дивизий с одновременной высадкой во вражеский фланг и тыл 3-го полка морской пехоты (командир - капитан К. М. Корень, военком батальонный комиссар И. А. Слесарев) в районе села Григорьевка и небольшого парашютного десанта - у Шицли.
Так развивались события, предшествовавшие созданию первого в советском флоте парашютно-десантного подразделения. На подготовку парашютистов было выделено всего… трое суток. За это время успели произвести необходимую экипировку и вооружение, а также элементарную наземную подготовку к прыжку с парашютом, который многие из моряков должны были сделать впервые в жизни. Инструктаж проводил сам начальник парашютно-десантной службы ВВС Черноморского флота майор Шорин и старший лейтенант Захожий, опытный парашютист. Каждый моряк-парашютист был вооружен пистолетом-пулеметом ППШ (ППД) или самозарядной винтовкой, а также шестью гранатами, не считая десантного ножа. Для совершения диверсий дополнительно был выдан необходимый мелкий инструмент (кусачки, ножи, «кошки»).
Ночью 22 сентября 1941 года на самолете ТБ-3 в непосредственном тылу румынских частей, против которых был направлен основной удар морского десанта, была выброшена группа парашютистов численностью 23 человека во главе со старшиной флота Анатолием Кузнецовым Целью их действий стало нарушение управления частями противника и отвлечение внимания от основных сил, высаживавшихся с моря. Несмотря на то что морякам-парашютистам пришлось в основном вести бои разрозненно, в целом их применение можно считать довольно удачным, если учесть обстоятельства их подготовки. С боевого задания смогли вернуться здоровыми 11 человек, ранеными - двое. 9 человек погибло. Сам автор идеи использования воздушного десанта для обеспечения действий морских пехотинцев так оценил результаты этой операции: «…1. Парашютно-десантная группа задачу выполнила и свое назначение оправдала. 2. Группу парашютистов в 13 человек используем как основной костяк в создании парашютно-десантных отрядов. 3. На ближайший период ставим задачу о создании более крупной и наиболее подготовленной группы. 4. Наиболее эффективным оружием оказалась не винтовка, а граната и автопистолет. 5. Белый купол парашюта себя демаскирует; необходима покраска парашютов в маскирующий цвет. 6. Каждому бойцу необходимы перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи. 7. Крайне необходимо иметь парашютисту кусачки, „кошки“, нож и другие мелкие инструменты…» Новый отряд моряков-парашютистов был вскоре создан, но тут же расформирован по причине «изменения оперативной обстановки».
Немецкая армия прорвала советскую оборону в Крыму, и началась эвакуация войск из Одессы на полуостров для усиления находившихся там соединений. Оставшиеся в живых десантники составили основу роты охраны командования и штаба ВВС ЧФ в Крыму, а непосредственно сформировавший первую группу моряков-парашютистов капитан М. А. Орлов, еще до войны имевший звание «мастер парашютного спорта СССР» и сделавший около тысячи прыжков с парашютом, был отправлен на Кавказ с указанием приступить к созданию нового парашютного подразделения флота. Сам энтузиаст воздушно-десантных операций, бригадный комиссар М. Г. Степаненко, погиб 21 ноября 1941 года, получив смертельные ранения во время артиллерийского обстрела флагманского КП в Севастополе.
Тем не менее на этом история парашютистов советского флота не закончилась. Напротив. Опытом удачного применения воздушного десанта для обеспечения действий других соединений заинтересовалось уже непосредственно… командование ВВС Черноморского флота. И тому были свои причины…
После катастрофы советских войск в Крыму в мае 1942 года у вновь созданного Северо-Кавказского фронта возник ряд проблем, справиться с которыми было ему весьма и весьма не просто… Именно в этот момент начинает формироваться парашютно десантная рота ВВС Черноморского флота в составе 160 человек. Начавшееся в мае формирование этого небольшого подразделения завершилось применением его в качестве основной ударной силы в операции по уничтожению самолетов противника на его авиабазе в Майкопе 23 октября 1942 года. Оперативная обстановка в регионе в данный промежуток времени складывалась весьма не простая.
Как и предусматривалось советской военно-морской доктриной, Черноморский флот в этот период решал задачи, которые определялись прежде всего положением сухопутных сил. Он должен был содействовать войскам Северо-Кавказского и Закавказского фронтов на побережье Черного моря, оборонять приморские города и военно-морские базы, не допускать высадки противником десантов, а также наносить удары по его коммуникациям и местам базирования.
Особенно напряженный характер противостояние приняло в июле, когда советские войска вынуждены были отходить на юг под давлением немецко-румынских сил, успех которых прежде всего был обеспечен активными действиями подвижных соединений и авиации. Подвергаясь непрерывным ударам с воздуха, войска Южного фронта были вынуждены переправить свои части и боевую технику на левый берег Дона.
В середине августа 17-я немецкая армия, овладев Краснодаром, развернула стремительное наступление на Новороссийском и Туапсинском направлениях. К Новороссийску продвигались 2 пехотные и 3 кавалерийские дивизии, а на Туапсинском направлении - 5 пехотных и 2 моторизованные дивизии.
В наступлении на Новороссийск немецкое командование основную ставку также сделало на успех взаимодействия мотомеханизированных частей и авиации. Это позволило ему, удерживая инициативу за собой все это время, захватить перевал Волчьи Ворота, Абрау-Дюрсо и Южную Озерейку, а с рассветом 6 сентября выйти на дорогу Неберджаевская - Мефодиевский и к северо-западным окраинам Новороссийска. 7 сентября, прорвав здесь оборону, немецко-румынские войска захватили железнодорожный вокзал, а затем элеватор и порт. Советские части (главным образом морская пехота), отрезанные от основных сил 47-й армии, в течение трех дней вели упорные бои в западных и южных районах Новороссийска и в предместье Станички, дрались за каждую улицу, за каждый дом, но были прижаты к морю и 10 сентября вынуждены эвакуироваться на кораблях на восточный берег Цемесской бухты.
Немецкое командование приняло решение не тратить время и скудные резервы на борьбу за овладение этими позициями и начало готовить основные силы 17-й армии к наступлению на Туапсе с целью отрезать группировку советских войск в районе Новороссийска.
Удивительно, но такое развитие событий не оказалось для советского командования неожиданным! Еще 23 августа Военный совет Закавказского фронта принял решение создать так называемый «Туапсинский оборонительный район» (ТОР) в границах Джубга, Лазаревская, Георгиевская. Возглавил оборону района командир Туапсинской военно-морской базы контр-адмирал Г. В. Жуков. К моменту начала немецкого наступления на Туапсинском направлении прикрытие ТОР с суши осуществляли войска 18-й армии (командующий - генерал-лейтенант Ф. В. Калмыков, с 19 октября - генерал-майор А. А. Гречко). Подходы с моря были защищены кораблями и береговой артиллерией военно-морской базы.
Немецкое наступление началось 25 сентября. Перед этим в течение двух дней боевые порядки советских войск подвергались массированным авиационным ударам, и в результате пятидневных ожесточенных боев, немецко-румынским частям удалось на отдельных участках продвинуться на 5–10 км, после чего им пришлось сделать двухнедельную паузу. Проявили себя трудности ведения наступательных действий в гористо-лесистой местности, а также дефицит резервов. 14 октября наступление возобновилось, и на этот раз оно велось одновременно через Шаумян и из района Фанагорийского на Садовое с целью окружить основную группировку войск 18-й армии и выйти к Туапсе. Наступающие войска активно поддерживала авиация. Она ежедневно производила по 500–600 самолетовылетов для нанесения бомбовых ударов по боевым порядкам советских войск. 16 октября подразделения вермахта вышли к станции Навагинская, а на следующий день овладели районом Шаумян.
Одиннадцать дней и ночей не прекращались бои на подступах к Туапсе, но прорвать советскую оборону так и не удалось. 31 октября из-за недопустимого уровня потерь немецкое командование приняло решение перейти к обороне и стало закрепляться на достигнутых рубежах. Последний раз оно попробует достичь своей цели в середине ноября, но и эта попытка окажется неудачной.
Такова вкратце ситуация, в которой происходило формирование первого штатного парашютно-десантного подразделения ВМФ СССР, а также проведение им боевой операции, имеющей по меньшей мере оперативное значение. Целью операции являлось лишение немецкого командования основного и наиболее значимого на тот момент преимущества в ожесточенной схватке с советскими войсками - господства в воздухе. Для этого предполагалось уничтожить материальную часть наиболее боеспособных подразделений люфтваффе, базировавшихся в то время на аэродроме города Майкопа. По всей видимости, иными путями лишить наступающие немецко-румынские войска эффективной поддержки с воздуха не удавалось.
Вот как охарактеризовал эту ситуацию сам командующий ВВС Черноморского флота генерал-майор авиации В. В. Ермаченков: «…Фашистская авиация злобствует на всех направлениях Закавказского фронта и Черноморской группы войск. Она сковала действия наземных частей, кораблей ЧФ и нашей авиации, базирующейся на аэродромах Геленджика, Туапсе, Лазаревской, Адлера…»
Таким образом, можно констатировать, что вновь сформированное спецподразделение флота сразу же оказалось в эпицентре битвы за Кавказ. Не будет преувеличением утверждать, что на момент начала операции по уничтожению самолетов противника на аэродроме Майкопа моряки-парашютисты оказались той силой, которая была способна решающим образом повлиять на исход этого драматичного сражения, лишив немецкие войска их основного козыря - авиационного превосходства. По оценке советского командования, для этого требовалось всего три дня решительного ослабления люфтваффе на направлении главного удара. По данным разведки, на аэродроме единовременно могло находиться до 50–70 самолетов различного типа, представлявших на тот момент весьма внушительную силу, если учесть, что им противостояло со стороны ВВС ЧФ (по официальным данным) не более 92 исправных самолетов… Весьма примечательно, что именно в это время на авиабазе Майкопа постоянно присутствовали представители элитных частей ВВС Германии, таких как III/JG52. Даже знаменитый впоследствии Эрих Хартманн побывал тогда на этом аэродроме несколько раз…
В связи с изложенными выше обстоятельствами, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке личного состава ПДР ВВС ЧФ к выполнению столь ответственного задания. Что представляло собой это спецподразделение, внезапно оказавшееся в эпицентре битвы за Кавказ?
С момента появления приказа о формировании отдельной парашютно-десантной роты в составе ВВС Черноморского флота в мае 1942 года подготовке ее личного состава уделялось большое внимание. Командиром роты был назначен капитан М. А. Орлов, а его заместителем по политической части стал старший политрук Д. И. Дерябин, который не имел до этого отношения к парашютному делу, но быстро его освоил вместе со своими подчиненными.
Помощником Орлова по парашютно-десантной подготовке был назначен бывший начальник ПДС 40-го авиаполка капитан А. П. Десятников, один из ветеранов советского парашютизма, мастер парашютного спорта СССР, имевший на тот момент около 1000 прыжков на своем счету. Примечательно, что помимо общего руководства воздушно-десантной подготовкой моряков-парашютистов и организации учений и прыжков днем и ночью в условиях, максимально приближенных к боевым, в его обязанности входила также разработка замысла боевой операции подразделения, что являлось характерной особенностью советских ВДВ того времени. Непосредственно парашютно-десантной подготовкой личного состава роты занимался другой ветеран парашютного движения в СССР (более 1000 прыжков), получивший звание мастера парашютного спорта еще в 1936 году, бывший начальник ПДС 5-го гвардейского авиаполка старший лейтенант А. А. Тарутин. Это имя было впоследствии хорошо известно каждому спортсмену-парашютисту Советского Союза. Один из моряков-десантников охарактеризовал его как «самого интеллигентного, хорошо воспитанного, тактичного и вежливого офицера» в подразделении, «пользовавшегося исключительно высоким авторитетом» у его личного состава.
За строевую, огневую и тактическую подготовку роты отвечал общевойсковой офицер старший лейтенант Г. И. Марущак, характеризовавшийся как «всестороннее подготовленный командир, прекрасный строевик, отлично стрелявший из всех видов стрелкового оружия и быстро ориентировавшийся в любой ситуации общевойскового боя».
Подготовка проводилась основательно, без спешки. В течение июня - сентября 1942 года моряки изучили материальную часть парашютов и произвели наземную отработку элементов прыжка. После этого каждый из них совершил по 10–12 ночных и дневных прыжков с парашютом в полной боевой выкладке. Тщательно отрабатывались действия в тылу противника при уничтожении различных объектов, а также длительные марш-броски по незнакомой горной местности, преодоление различных преград. Так как основным транспортным средством советских ВДВ того времени являлся бомбардировщик ТБ-3, то большое внимание уделялось изучению специфики выброски с него, производившейся как через бомболюки, так и непосредственно с крыла самолета. И особо отрабатывались методы сбора парашютистов непосредственно после приземления, в момент наибольшей уязвимости любого воздушного десанта.
Разработка десантной операции против майкопской авиабазы люфтваффе началась в конце сентября, а в октябре были отобраны 40 человек для непосредственной подготовки к высадке и уничтожению неприятельских самолетов на летном поле. Днем и ночью парашютисты совершали прыжки на местность, максимально похожую на ту, на которой предстояло выполнять поставленную боевую задачу. Отрабатывались прыжки на точность приземления с малых высот, а также действия по сбору приземлившихся и организации боя с силами охраны аэродрома противника.
За несколько дней до начала операции в ее замысел было внесено одно принципиальное изменение. Высадка десантников должна была производиться непосредственно вслед за нанесением авиацией флота бомбо-штурмового удара по наземным средствам ПВО противника, а также по расположенным неподалеку другим военным объектам. Вероятно, таким способом предполагалось ввести немецкую оборону авиабазы в заблуждение относительно замысла операции и облегчить действия парашютного десанта. На деле вышло все с точностью до наоборот.
Общий замысел операции предусматривал взлет с аэродрома в Сухуми одного самолета ПС-84 и одного ТБ-3. На борту первого находилась группа управления, включавшая помимо 5 человек комсостава и двух проводников из числа местных жителей-партизан, а также группа прикрытия из 15 человек, чьей задачей являлось сковывание боем охраны аэродрома и обеспечения действий диверсионной группы по уничтожению неприятельских самолетов на летном поле. На борту ТБ-3 находились 20 десантников группы, предназначенной непосредственно для проведения диверсии на авиабазе.
Самолеты должны были на маршруте следования к району выброски набрать высоту 2000 метров, а за несколько километров до цели перейти в режим планирования, позволявший произвести скрытное десантирование моряков-парашютистов с высоты 400 метров непосредственно на летное поле неприятельского аэродрома. Разрабатывавший этот план помощник командира ПДР капитан А. П. Десятников основную ставку делал на внезапность и скрытность десантирования, но в штабе ВВС ЧФ, вероятно, посчитали такой расчет недостаточно убедительным и решили нанести непосредственно перед высадкой бомбо-штурмовой удар в районе цели… После выполнения поставленной задачи парашютисты должны были оторваться от преследования, воспользовавшись особенностями близлежащей гористо-лесистой местности, после чего уйти в лес на соединение с партизанами, которые должны были помочь им пересечь линию фронта в районе Даховская и Хамышки. Сам командир ПДР хорошо знал майкопский аэродром, так как проходил на нем службу до войны. Знакомы были с местностью и некоторые десантники боевых групп.
В снаряжение каждого моряка-парашютиста входили: пистолет-пулемет (ППШ или ППД), пистолет ТТ, десантный нож, две ручные гранаты, компас, карманный фонарик и сухой паек на двое суток. Группа прикрытия была также вооружена двумя пулеметами ДП, а каждый десантник диверсионной группы имел универсальный топорик и несколько зажигательных устройств, смонтированных на основе легких зажигательных авиабомб и предназначавшихся для надежного уничтожения авиатехники противника непосредственно на месте ее стоянки.
Хотелось бы отметить, что непосредственно перед операцией личный состав десантной группы дал следующую клятву:
«Мы клянемся!
Идя на выполнение боевого задания, мы, моряки-черноморцы, клянемся тебе, Родина, вам, Великий Сталин, что с честью выполним порученное нам дело.
Клянемся: стойко и мужественно драться с ненавистным врагом, беспощадно уничтожать фашистских гадов и его технику.
Каждый из нас горит благородным желанием мести. Мы будем мстить за отцов, матерей, братьев, сестер, за сиротские слезы, за поруганных жен и любимых девушек, за все злодеяния, учиненные гитлеровскими палачами.
Никто из нас не дрогнет, как бы тяжело ни пришлось в бою. Будем драться до последнею, а последний до последней капли крови, но задание выполним!
Но если в наших рядах окажется трус - его уделом будет позорная смерть, всеобщая ненависть и презрение.
Наше знамя - Сталин, и с этим знаменем мы идем в бой.
Клятвенные заявления перед выполнением боевого задания являлись довольно распространенной практикой морально-психологической подготовки советских солдат к бою во время Великой Отечественной войны. Такова была характерная особенность Вооруженных сил СССР того времени.
Непосредственно перед вылетом капитану А. П. Десятникову были вручены аэрофотоснимки летного поля в Майкопе, на которых удалось идентифицировать 28 истребителей типа Me-109, 4 бомбардировщика Ю-88, 3 транспортных и 4 связных самолета.
В 21 час 15 минут 23 октября 1942 года десантный отряд стартовал с полевого аэродрома Бабушеры в 12 км от Сухуми. Самолеты стали набирать предписанную планом высоту, следуя по заранее проложенному маршруту выхода к месту десантирования.
Примерно в 23.30 9 бомбардировщиков ДБ-3, 2 истребителя И-15 и 2 СБ из 5-го гвардейского, 40-го и 62-го полков 63-й авиабригады подполковника Н. А. Токарева нанесли бомбо-штурмовой удар по аэродрому в Майкопе, расположенной рядом станции, дорогам, идущим в город, и произвели штурмовку зенитных и прожекторных точек. В результате было разбито несколько самолетов и три прожектора, а также повреждена взлетно-посадочная полоса. Однако «побочным эффектом» этих действий стала активизация всей обороны неприятельской авиабазы, обнаружившая, что зенитных средств и прожекторных установок на ней было значительно больше, чем предполагали разработчики операции. К тому моменту, когда транспортные самолеты встали на курс выброски, немецкие зенитчики смогли открыть по ним сосредоточенный огонь из всех имевшихся у них средств.
Если первому самолету (ПС-84) удалось относительно удачно произвести выброску десанта и вернуться на базу, то следовавший за ним огромный четырехмоторный тихоходный ТБ-3 был подожжен и упал на окраине летного поля. Из экипажа уцелел только командир корабля, сумевший покинуть горящую машину в последний момент. Тем не менее большая часть десантников успела покинуть горящую машин и приземлиться на аэродроме противника, несмотря на то что некоторым из них приходилось прыгать едва ли не под струями горящего бензина, вытекавшего из пробитых бензобаков гигантского бомбардировщика.
Подразделения охраны авиабазы отреагировали на выброску десанта оперативно, что, впрочем, неудивительно. Вряд ли после предварительной бомбардировки к моменту выброски парашютистов на базе оставался спящим хотя бы один немецкий солдат. Необходимо отметить, что противодесантной обороне военных объектов немецкое руководство уделяло достаточно серьезное внимание, о чем свидетельствуют различные инструкции и учебные фильмы с примерами оптимальной организации противодействия атакам парашютистов противника, прежде всего аэродромов и мест базирования авиачастей. Сказывался собственный опыт применения этого средства борьбы в Европе и на Средиземном море. Возможно, именно поэтому охранные части авиабазы были моторизованы и хорошо вооружены, что позволило им довольно быстро вступить в огневой контакт с высадившимися парашютистами. Тем не менее в завязавшемся ночном бою немцам не удалось полностью воспрепятствовать действиям моряков-десантников (сказалось и стремление немцев избежать повреждения собственной авиатехники). Их группа прикрытия сумела отвлечь на себя основные силы охраны, что позволило диверсионной группе поджечь зажигательными снарядами более десятка самолетов на стоянках. По оценке произведенной утром аэрофотосъемки, было полностью уничтожено 13 и серьезно повреждено 10 самолетов противника.
Вся операция на летном поле заняла несколько минут, после чего десантники стали разрозненными группами прорываться из окружения и отходить в район встречи с партизанами, которая произошла на седьмой день после высадки. Эвакуация из-за линии фронта десантников была произведена в середине декабря 1942 года при помощи самолетов У-2. Всего из 37 человек десанта на базу смогло вернуться 24. Остальные 13 моряков-парашютистов погибли, как и 2 проводника из числа партизан, а также 7 человек экипажа сбитого ТБ-3.
Как определить значимость того, что было сделано моряками-парашютистами на аэродроме Майкопа 23 октября 1942 года? Как оценить эффективность их действий? На эти и им подобные вопросы можно дать разные ответы. Уже упоминавшийся ранее военный историк генерал-майор И. И. Лисов предлагает такой вариант интерпретации данного исторического факта: «…Это было сделано в то время, когда всей своей мощью враг давил на Сталинград, продолжая наступать на Кавказ. Гитлеровцы принимали все меры к тому, чтобы активизировать воздушное наступление, под прикрытием которого сухопутные войска могли бы безостановочно идти вперед. Для этого, в частности, командующий люфтваффе на юге генерал-майор Рихтгофен и перебазировал на майкопский аэродром эскадрильи своих лучших асов. Они готовились к воздушным боям, но вопреки всему накрыли их моряки, и накрыли на земле» . К этому можно также добавить, что между 23 октября, когда наносился удар по авиабазе в Майкопе, и 31 октября, когда немецким командованием было принято решение прекратить наступательные действия на Туапсинском направлении, прошло всего 7 дней. Вполне возможно предположить наличие определенной связи между двумя этими событиями. Неоспоримым фактом является и то, что продвинуться на данном участке советско-германского фронта немецким войскам уже было не суждено.
Таким образом, первое применение в бою вновь созданного спецподразделения флота было весьма удачным. Во всяком случае, подобного мнения придерживалось и советское военное командование, когда принимало решение использовать моряков парашютно-десантной роты ВВС ЧФ для обеспечивающих действий в знаменитой операции по освобождению Новороссийска с использованием морского десанта в районах Южная Озерейка и Станичка 4 февраля 1943 года.
Представляется целесообразным обрисовать общий ход операции, частью которой стала высадка уникального подразделения моряков-парашютистов. Как и в 1941 году, им пришлось столкнуться в бою с румынскими войсками, но на этот раз это оказался гораздо более серьезный противник…
Победа Красной Армии под Сталинградом в корне изменила обстановку на всем советско-германском фронте.
На Юго Западном направлении в начале января 1943 года в результате быстрого продвижения советских войск от Сталинграда к Ростову немецко-румынская группа войск, действовавшая на Северном Кавказе, оказалась под угрозой окружения и начала отход. Войска Закавказского фронта (с 24 января - Северо-Кавказского) перешли в наступление.
К весне 1943 года был освобожден почти весь Северный Кавказ. Лишь на Таманском полуострове противник закрепился на так называемой Голубой линии, примыкавшей флангами к Азовскому и Черному морям. Немецкое командование стремилось как можно дольше удержать этот прикрывавший подступы к Крыму плацдарм, возводя здесь мощные оборонительные сооружения, поэтому возник замысел нанести в кратчайшие сроки комбинированный удар с суши и моря в ключевом месте оборонительных позиций противника - в районе Новороссийска.
План десантной операции был утвержден еще в ноябре 1942 года. Местом высадки основных сил намечался район Южной Озерейки, а вспомогательных - район Станички. Тогда же было принято решение высадить воздушный десант в районе Васильевки и демонстративные морские десанты - у мыса Железный Рог, у Анапы, Варваровки и в других пунктах.
Основные силы десанта, возглавлявшиеся полковником Д. В. Гордеевым, составили 83-я Краснознаменная бригада морской пехоты (командир - подполковник Д. В. Красников, заместитель командира по политчасти - подполковник Ф. В. Монастырский), 255-я Краснознаменная бригада морской пехоты (командир - полковник А. С. Потапов, заместитель командира по политчасти - подполковник М. К. Видов), 165-я отдельная стрелковая бригада, отдельный авиадесантный полк, 29-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, пулеметный и танковые батальоны. Для их высадки были сформированы отряд транспортов, отряд кораблей охранения, отряд высадочных средств, а также отряд кораблей прикрытия и артиллерийской поддержки, в который вошли гвардейские крейсера «Красный Крым», «Красный Кавказ», лидер «Харьков», эскадренные миноносцы «Беспощадный» и «Сообразительный». Авиационное обеспечение высадки возлагалось на авиагруппу (137 самолетов) из состава военно-воздушных сил Черноморского флота и на 30 самолетов 5-й воздушной армии.
Общее руководство операцией по овладению Новороссийском осуществлял командующий Черноморской группой войск генерал-лейтенант И. Е. Петров, а высадкой десанта руководил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, которому непосредственно были подчинены командир отряда кораблей прикрытия вице-адмирал Л. A. Владимирский, командир высадки контр-адмирал Н. Е. Басистый, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков и командующий ВВС флота генерал-майор авиации В. В. Ермаченков.
Вспомогательный десант состоял из штурмового отряда в 250 морских пехотинцев (командир - майор Ц. Л. Куников, заместитель командира по политчасти - старший лейтенант Н. В. Старшинов). Высадка его должна была осуществляться кораблями Новороссийской базы под руководством капитан-лейтенанта Н. И. Сипягина. Артподготовка десантирования и поддержка действий морских пехотинцев на берегу возлагались на береговую артиллерию Новороссийской военно-морской базы.
Срок проведения десантной операции зависел от действий войск 47-й армии, которые должны были прорвать оборону противника и выйти на перевалы Маркотх и Неберджаевский. Решить же эту задачу им не удалось. Тогда, чтобы оказать помощь наступающим войскам в освобождении Новороссийска, командующий Черноморской группой приказал высадить морской десант не позднее 2 часов 4 февраля, не дожидаясь прорыва обороны противника. Однако высадка основных сил из-за активного противодействия противника, штормовой погоды и невысокой организации взаимодействия кораблей и авиации не удалась. На берегу закрепились лишь штурмовые отряды первого эшелона, насчитывавшие около 1500 человек и 16 танков. Они овладели поселком Южная Озерейка и 5 февраля достигли южной окраины поселка Глебовка. В течение последующих трех дней десантники вели ожесточенные бои в окружении. Израсходовав боеприпасы и понеся большие потери, они стали пробиваться в район Станички, но прорваться туда смогла лишь небольшая группа. Таким образом, сохранить плацдарм у Южной Озерейки не удалось.
Вспомогательный десант высадился в районе Станички успешно. Этому в немалой степени способствовали действия десантников в районе Южной Озерейки, сковавшие здесь крупные силы противника, верно определившего направление главного удара атакующих и направившего туда свои резервы. Решительность действий штурмового отряда под командованием майора Ц. Л. Куникова и сильный огонь береговой артиллерии оказались неожиданными для неприятеля, части которого оставили свои позиции у среза воды. При этом морские пехотинцы захватили четыре орудия и тут же использовали их для подавления огневых средств и живой силы противника.
Спустя два часа на занятый плацдарм был высажен второй эшелон - боевые группы под командованием старших лейтенантов И. В. Жернового, В. А. Ботылева и И. М. Ежеля. Всего в первую ночь десантировалось 870 бойцов и командиров, которые прочно закрепились на плацдарме шириной около 3 км по береговой черте и до 2,5 км в глубину.
Противник, подтянув свежие силы пехоты, артиллерии и танков, утром 5 февраля предпринял ожесточенные контратаки, пытаясь сбросить десант в море. Морские пехотинцы при поддержке береговой артиллерии, кораблей и авиации флота держались стойко.
Советское командование, оценив обстановку, перебросило на это вспомогательное направление основные силы войск, предназначавшиеся для действий у Южной Озерейки. В течение 6–8 февраля канонерские лодки «Красный Аджаристан», «Красная Грузия» и другие корабли и суда доставили в район Станички 255-ю и 83-ю Краснознаменные бригады морской пехоты, 165-ю отдельную стрелковую бригаду, отдельный авиадесантный полк и 29-й истребительно-противотанковый полк. В последующем на плацдарм, получивший название «Малая земля», были переброшены еще четыре стрелковые бригады, управление 16-го стрелкового корпуса 18-й армии и пять партизанских отрядов, которыми командовал секретарь Новороссийского горкома партии П. И. Васев. Десантники, расширив плацдарм до 30 кв. км, заняли 14 кварталов Новороссийска, населенные пункты Алексино, совхоз «Мысхако» и перерезали шоссейную дорогу Новороссийск - Глебовка. Но сопротивление немецко-румынских частей не ослабевало.
Германское командование спешно подтянуло к новороссийскому участку фронта четыре немецких и одну румынскую дивизии, а также крупные силы авиации. Ценой огромных усилий ему удалось остановить продвижение десантных войск, которые так и не смогли тогда освободить Новороссийск. Но созданный плацдарм, оттягивавший на себя большие силы противника, позволил это сделать позднее, в сентябре 1943 года. Начавшись 15 февраля, легендарная эпопея Малой Земли длилась семь месяцев.
Высадка группы моряков-парашютистов в самом начале этой эпопеи была, разумеется, всего лишь небольшим эпизодом на фоне столь грандиозного события. Но вряд ли это мог кто-либо предполагать 14 февраля, когда самолеты с десантом на борту раньше других высадочных средств появились в районе нанесения главного удара операции…
Но сначала была усиленная подготовка. Личный состав ПДР пополнили новыми добровольцами, с которыми делились своим боевым опытом ветераны, совсем недавно вернувшиеся из-за линии фронта после выполнения весьма опасного боевого задания. К новой операции готовились с энтузиазмом. Особое внимание уделялось вопросам отработки взаимодействия парашютистов с частями морского десанта. Совершались регулярные прыжки с парашютом днем и ночью в полной экипировке и с оружием. Предполагалось в максимальной степени использовать фактор внезапности, в отличие от предыдущей операции. Для этого совершенствовались навыки быстрой посадки десанта в самолеты, экипажи которых тренировались в умении максимально быстро готовить свои воздушные корабли к вылету, а также отрабатывали взлет и сбор в воздухе в кратчайшие сроки.
Помимо упражнений, связанных со спецификой предстоящей операции, не прерывались занятия по уже ставшей привычной программе подготовки бойца-парашютиста: сбор группы после приземления; рукопашный бой; метание гранат; стрельба из всех положений; снятие часовых; подрывное дело; ориентирование на незнакомой местности; связь и координация действий в сложных условиях. Не прекращались, разумеется, и политзанятия, на которых разбирались самые разные вопросы, включая итоги проведенных боев, совершенные ошибки, а также имевшие место недочеты.
2 февраля 1943 гола командир ПДР майор М. А. Орлов доложил вышестоящему руководству о готовности моряков-парашютистов к выполнению боевого задания.
В соответствии с замыслом операции отобранной из них группе в количестве 80 человек предстояло высадиться с трех самолетов ПС-84 и одного ТБ-3 ночью 4 февраля за 45 минут до высадки сил основного десанта морской пехоты в районе Южной Озерейки, которая должна была начаться в 3 часа 35 минут. Парашютистам была поставлена задача обеспечивать продвижение морского десанта от Южной Озерейки к Глебовке и Васильевке путем уничтожения штабов частей противника, прикрывавших данный сектор, а также нарушения связи, разрушения мостов и блокирования иных коммуникаций.
К сожалению, события в ночь высадки развивались не совсем так, как предполагалось.
Непосредственно перед самой выброской парашютистов на район их приземления возле Глебовки и Васильевки двумя бомбардировщиками СБ были сброшены более 300 малых зажигательных бомб и четыре ЗАБ-100. Возникшие сильные пожары служили световым ориентиром для высаживавшегося десанта, чьи самолеты появились над целью через три минуты после СБ. Отсутствие огневого противодействия со стороны противника позволило быстро и четко провести выброску трех групп из четырех, так как экипаж ТБ-3 отстал и не смог выйти на цель самостоятельно, чтобы произвести десантирование. Таким образом, вместо 80 человек в тыл противника было сброшено 57 моряков-парашютистов. Но неудачи продолжали преследовать десант. Не рассчитав времени задержки раскрытия купола, разбился командир одной из групп совсем недавно произведенный в лейтенанты П. М. Соловьев, который возглавлял бойцов во время высадки в Майкопе.
Несмотря на то что выброска парашютистов оказалась полной неожиданностью для противника, бойцы ПДР вскоре столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Им пришлось вести бои в течение нескольких часов в расположении 10-й румынской пехотной дивизии. Дело осложнялось тем, что во время выброски десантники оказались рассеяны и вынуждены были сражаться мелкими группами. Несмотря на это, в районе села Васильевка им удалось подавить сопротивление противника, уничтожив несколько огневых точек и нарушить связь. Потери неприятеля оценивались примерно в сотню солдат и офицеров. После этого успеха моряки-парашютисты атаковали вражеские позиции в селе Глебовка, где им удалось уничтожить одну артиллерийскую батарею со всем личным составом. Но удерживать в своих руках эти позиции десантники уже не могли и стали прорываться в сторону моря на соединение с высадившимися частями морской пехоты.
Тем временем для уничтожения группы в районе Васильевки противник подтягивал пехоту, артиллерию и бронетехнику. Начавшиеся утром атаки блокированных моряков-парашютистов показали, что возможности удержаться до подхода основных сил со стороны моря у них нет. Командир группы лейтенант И. А. Кузьмин принимает решение прорываться в сторону Глебовки, что и удается сделать оставшимся в живых десантникам. Так как и в этом районе не оказалось советских войск, группа стала прорываться к своим на восток, ориентируясь на звуки боя, шедшего в том направлении…
Как известно, морской десант в районе Южной Озерейки был полностью разгромлен, и все надежды на успех операции советское командование стало связывать с закрепившимся на берегу в районе Станички вспомогательным десантом. Позднее этот плацдарм получил название «Малая Земля»…
Каковы же оказались итоги действий парашютно-десантной группы, высаженной в районе Глебовки и Васильевки?
По оценкам самих десантников, в результате проведенных ими боев в тылу противника были уничтожены более 200 неприятельских солдат и офицеров, одна артиллерийская батарея, 5 пулеметных точек и 3 автомашины. После этого части десанта удалось пробиться к берегу, откуда 10 февраля бойцы были сняты катером и доставлены в Геленджик. Остальные выходили из окружения небольшими группами разрозненно. К 12 марта из 57 высаженных моряков парашютно-десантной роты вернуться к своим смогли лишь 28 человек.
Вряд ли можно говорить об успехе парашютного десанта в районе Васильевки и Глебовки, если оценивать его только по общим результатам. Необходимо учитывать то обстоятельство, что результативность действий ПДР была непосредственно связана с результативностью основных сил морского десанта, который так и не смог не только выйти к рубежам, удерживаемым парашютистами, как это было запланировано, но и удержаться на захваченном прибрежном плацдарме. В свою очередь, воздушный десант также не смог самостоятельно установить связь с морской пехотой или прорваться к месту ее высадки.
Тем не менее, несмотря на весьма неоднозначно оцениваемые результаты применения ПДР в ходе десантной операции под Новороссийском, командование ВВС ЧФ продолжило эксперименты с этим спепподразлелением. Более того, в мае 1943 года принимается решение о развертывании на его основе парашютно-десантного батальона ВВС ЧФ из четырех рот. Было произведено укомплектование этой части личным составом, который стал усиленно готовиться к следующим воздушным десантам. Новым командиром вместо майора М. А. Орлова стал майор Н. Д. Алексеенко.
Но моряки-парашютисты не могли и предположить, что им больше не придется десантироваться в тылу противника с воздуха.
По мнению советского командования, осенью 1943 года сложилась благоприятная обстановка для полной ликвидации немецкой группировки на территории Крымского полуострова. К этому времени войска Северо-Кавказского фронта полностью очистили от противника Таманский полуостров. Войска 4-го Украинского фронта 23 октября освободили Мелитополь, 31 октября вышли к Сивашу, а 1 ноября овладели сильно укрепленными позициями неприятеля у Турецкого вала на Перекопском перешейке. Немецко-румынские войска в Крыму оказались полностью изолированными с суши.
В Ставке Верховного Главнокомандования было принято решение нанести удары по крымской группировке противника с севера и востока силами 4-го Украинского и Северо-Кавказского фронтов При этом части Северо-Кавказского фронта должны были форсировать Керченский пролив. Высадку десанта на Керченский полуостров предполагалось произвести в двух районах - севернее и южнее Керчи.
13 октября командующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии И. Е. Петров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. A. Владимирский представили в Генеральный штаб план Керченско-Эльтигенской десантной операции, который Ставкой был утвержден. Замысел операции предусматривал одновременную высадку Азовской военной флотилией трех дивизий 56-й армии на главном направлении в районе Еникале и Черноморским флотом одной дивизии 18-й армии на вспомогательном направлении - в районе Эльтигена.
После высадки десантные войска должны были нанести удары по сходящимся направлениям северо-восточнее Керчи и Эльтигена, овладеть городом и портом Керчь и портом Камыш-Бурун. В дальнейшем намечалось наступление обеих армий на запад для освобождения Керченского полуострова, а затем совместно с войсками 4-го Украинского фронта и всего Крыма.
Подготовка десантной операции велась интенсивно и всесторонне. Нельзя было не учитывать, что противник уделял большое внимание укреплению обороны Керченского полуострова. Здесь оборонялись 5-й армейский корпус 17-й немецкой армии, усиленный артиллерией, танками и поддерживаемый авиацией, и до десяти отдельных частей и команд (всего 85 тысяч солдат и офицеров). При необходимости германское командование могло бросить в бой две дивизии 1-го румынского горного корпуса, находившегося на южном побережье полуострова.
Керченский пролив и подходы к нему были заминированы. Кроме укреплений на побережье, противник строил три рубежа обороны общей глубиной до 80 км. В портах Керчь, Камыш-Бурун и Феодосия базировались около 30 быстроходных десантных барж, 37 торпедных и 25 сторожевых катеров, 6 тральщиков.
Учитывая все это, советское командование к участию в десантной операции привлекало довольно крупные силы: около 130 тысяч солдат и офицеров, свыше 2 тысяч орудий и минометов, 125 танков, более 1 тысячи самолетов, 119 боевых кораблей и 159 десантных судов.
Общее руководство десантной операцией осуществлял командующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии И. Е. Петров, его помощником по морской части был командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. A. Владимирский. Силы высадки возглавляли: на главном направлении - командующий Азовской флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, на вспомогательном - командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков.
В период подготовки к десантной операции разведывательными самолетами, торпедными и сторожевыми катерами были уточнены данные об огневых средствах и инженерных препятствиях противодесантной обороны противника. Проводились учения и тренировки по посадке войск на суда и высадке их на необорудованный берег. В сложных в навигационном отношении районах Керченского пролива были выставлены дополнительные огни и знаки.
В пунктах посадки десанта сосредоточивались необходимые запасы топлива и различного имущества, ремонтировались причалы. Был произведен ремонт катеров и судов.
Начало десантной операции намечалось одновременно во всех пунктах на 28 октября, но из-за штормовой погоды высадка десанта была перенесена в районе Эльтигена на 31 октября, а на главном направлении - на 3 ноября.
Посадка на корабли проводилась в сложных штормовых условиях и в некоторых отрядах закончилась с запозданием.
Когда головные катера приблизились к назначенным пунктам высадки примерно на 15–20 кабельтовых, открыла мощный огонь артиллерия поддержки с Таманского полуострова. Высадка десанта в районе Эльтигена началась в 4 часа 50 минут без противодействия противника. Лишь в 5 часов 20 минут немцы осветили пролив прожекторами и открыли сильный артиллерийский и минометный огонь. Несмотря на это, десантники продолжали стремительно высаживаться на берег, иногда добираясь к нему вплавь в ледяной воде.
В ночь на 1 ноября, несмотря на штормовую погоду, успешно высадились на Крымский берег моряки 386-го батальона морской пехоты. Было высажено также около трех тысяч человек 318-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник В. Ф. Гладков. К исходу 1 ноября десантные войска овладели плацдармом шириной до 5 км и глубиной до 2 км.
Однако из-за того, что десанты на главном и вспомогательном направлениях высаживались в разное время, противник получил возможность свободно маневрировать резервами. В связи с этим десант на Эльтиген оказался в исключительно тяжелом положении. Уже с утра 1 ноября неприятель начал наращивать мощь своих контратак. Доставка подкреплений десанту днем исключалась, так как пролив находился в зоне обстрела вражеской артиллерии и под ударами авиации. Лишь в ночь на 2 ноября удалось перебросить на плацдарм еще около 3300 человек.
Всего к исходу 3 ноября в район Эльтигена было доставлено 9418 человек, 39 орудий, 28 минометов, 257,2 тонны боеприпасов и 61,8 тонны продовольствия. Кроме того, авиация Черноморского флота и 4-я воздушная армия перебросили на плацдарм свыше 350 тонн различных грузов.
Немецкое командование стянуло к эльтигенскому плацдарму почти все свои резервы. Это поставило десант в тяжелое положение, но, с другой стороны, облегчило высадку частей 56-й армии на главном направлении, севернее Керчи, которая началась в ночь на 3 ноября. Планировалось высадить два десанта: первый - в районе Глейки, Жуковка (командир высадки - капитан 3-го ранга П. И. Державин), второй - в районе Опасная, Рыбный промысел (Еникале) (командир высадки - капитан 2-го ранга Н. К. Кириллов) Высадочные средства были сведены в пять отрядов; первым командовал старший лейтенант И. С. Соляников, вторым - старший лейтенант Д. Р. Микаберидзе, третьим - старший лейтенант И. Г. Черняк, четвертым - капитан-лейтенант П. Н. Сорокин, пятым - старший лейтенант А. Е. Тугов. Были созданы четыре штурмовые группы бронекатеров под командованием капитан-лейтенанта С. И. Барботько. В группу обеспечения входили звено торпедных катеров (командир - капитан-лейтенант А. И. Градусов), минометные катера «МК-56» и «МК-62».
В 22 часа 2 ноября началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка в районе Глейки, Жуковка, после которой к берегу направились бронекатера со штурмовыми группами морских пехотинцев, корабли и суда всех пяти отрядов с десантными войсками. За три часа они высадили доставленные из Темрюка 2274 десантника с девятью орудиями из 2-й гвардейской Таманской дивизии и 369-го батальона морской пехоты, затем первый, третий и пятый отряды перебросили сюда же из района кордона Ильич оставшиеся части 2-й гвардейской Таманской дивизии. К 5 часам утра 3 ноября на плацдарме в районе Глейки, Жуковка сражалось уже более 4 тысяч бойцов и командиров.
В районе Опасная, Рыбный промысел после артиллерийской и авиационной подготовки, начавшейся в 3 часа 25 минут, бронекатера со штурмовыми группами морских пехотинцев, корабли и суда второго и четвертого отрядов начали высадку десанта из числа войск 55-й гвардейской дивизии, доставленных с косы Чушка. К 4 часам 35 минутам высадка первого эшелона десанта (1900 человек) была закончена. Корабли и суда возвратились на причалы косы Чушка и, приняв там оставшиеся войска 55-й гвардейской дивизии, к 7 часам 30 минутам доставили их на плацдарм. Общее количество высаженных войск в район Опасная, Рыбный промысел также превысило 4 тысячи человек.
Отсутствие у противника значительных резервов и отвлечение его сил в район Эльтигена позволяло наращивать десантные силы 56-й армии и в дневных условиях. К 16 часам 3 ноября корабли и суда флотилии под прикрытием дымовых завес дополнительно переправили на занятые плацдармы 4440 человек, 45 орудий, минометы и боеприпасы. К исходу 11 ноября десант захватил оперативный плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи. К тому времени здесь уже насчитывалось 27 700 человек.
Немецкое командование спешно перебрасывало в район Керчи свои резервы. Атаки на силы десанта следовали одна за другой. Но высадившиеся войска прочно удерживали занятые рубежи. Силы Черноморского флота и Азовской флотилии срывали все попытки кораблей противника воспрепятствовать десантным перевозкам через Керченский пролив. В проливе постоянно завязывались ожесточенные схватки между силами «москитного флота» противоборствующих сторон.
Между тем положение десанта в районе Эльтигена становилось все более тяжелым. За 26 суток катерам лишь 16 раз удалось прорваться к плацдарму. Перевозки на самолетах также были ограниченными. Десант испытывал острый недостаток в боеприпасах и продовольствии, не мог эвакуировать раненых. 6 декабря при поддержке танков и авиации противнику удалось вклиниться в оборону десантников. Это еще более ухудшило их положение. Поэтому последовал приказ командования фронта оставить занятый плацдарм и пробиваться в район Керчи. 386-й батальон морской пехоты и на этот раз выполнял роль штурмового отряда. В ночь на 7 декабря он первым пошел в атаку. Прорвав кольцо окружения, морские пехотинцы устремились в северном направлении. За ними из района Эльтигена прорывались армейские части, но уйти удалось далеко не всем.
Прорвавшаяся из окружения группа десантников численностью свыше 1500 человек захватила на окраинах Керчи вражеские склады, а затем закрепилась на высотах у горы Митридат. Три дня они отбивали атаки противника, на четвертый на помощь им были переброшены на катерах два батальона 83-й отдельной бригады морской пехоты. Но и немецкое командование стянуло к району горы Митридат дополнительные силы. Десантники были оттеснены к берегу, и их пришлось эвакуировать. 10–11 декабря корабли Азовской военной флотилии прорвались к Керчи и, взяв на борт остатки Эльтигенского десанта общей численностью 2090 человек, эвакуировали их на косу Чушка.
Так закончилась полуторамесячная эпопея морского десанта в районе Эльтигена и горы Митридат.
Керченско-Эльтигенская операция была одной из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Она осуществлялась войсками целого фронта с участием сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии. При ее проведении особенно значительной была роль авиации как средства непосредственной поддержки десанта в бою за высадку. За период операции авиация Черноморского флота и 4-й воздушной армии совершила 4411 самолетовылетов и нанесла 17 групповых бомбардировочных ударов. Однако Северо-Кавказскому фронту в 1943 году не удалось полностью освободить Керченский полуостров.
Но командующий Отдельной Приморской армией не желал мириться с этой неудачей и принял решение в январе 1944 года прорвать оборону противника с помощью десантов, высаженных на мыс Тархан и в Керченский порт.
Основной состав сил высадки в районе мыса Тархан (общей численностью около 3000 человек) включал в себя 166-й гвардейский стрелковый полк 55-й гвардейской дивизии под командованием Героя Советского Союза подполковника Г. К. Главацкого (являвшегося и командиром всего десанта), а также 143-й отдельный батальон морской пехоты под командованием капитана Левченко. Вспомогательные силы (всего около 700 человек) состояли из парашютно-десантного батальона ВВС Черноморского флота под командованием майора Н. Д. Алексеенко и 613-й штрафной роты Черноморского флота под командованием старшего лейтенанта Ф. А. Аверченко. Операция была подготовлена спустя месяц после неудачи аналогичной высадки морского десанта на черноморском побережье в районе горы Митридат, закончившейся полным провалом. Возможно, по этой причине события в районе мыса Тархан привлекли к себе особое внимание Ставки Верховного Главнокомандования, чей представитель маршал К. Е. Ворошилов непосредственно наблюдал за высадкой и последовавшей затем двухдневной эпопеей с наблюдательного пункта западнее местечка Юркино. Кроме него, все это время на НП находились также командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. A. Владимирский и сам командующий Отдельной Приморской армией генерал И. Е. Петров.
Для проведения десантной операции моряками Азовской флотилии были подготовлены все имевшиеся в их распоряжении исправные плавсредства: до сорока тендеров и мотоботов, несколько сторожевиков и бронекатеров, баркасы и другие малые суда.
В декабре 1943 года личный состав ПДБ ВВС ЧФ был переброшен в Темрюк, где приступил к изучению и отработке методики высадки морского десанта на побережье, занятое частями противника. Особое внимание при этом обращалось на обобщение опыта уже проведенных десантных операций в этом регионе, а также на морально-психологическую подготовку к наступательным действиям в условиях сильного огневого противодействия со стороны неприятеля. Регулярно проводились тренировки по погрузке личного состава на различные плавсредства и высадке его на берег в дневное или ночное время, в различных метеоусловиях. Особое внимание уделялось распределению в подразделениях представителей партийно-комсомольского актива, которые, по всей видимости, должны были усилить боевую устойчивость соединения, имевшего в своем составе не так уж много ветеранов и бойцов, обладавших боевым опытом.
Первоначально назначенная на 31 декабря, высадка была перенесена на 10 дней из-за погодных условий.
Ночью 10 января 1944 года к северному побережью Керченского полуострова в районе мыса Тархан направились десантные корабли, на борту которых находились бойцы парашютно-десантного батальона ВВС ЧФ и 613-й штрафной роты Черноморского флота. Из-за штормовой погоды в Азовском море переход кораблей десанта затянулся до рассвета. Катера заливало водой, и перегруженные корабли становились на большой волне почти неуправляемыми. Не выдерживали и лопались буксирные тросы. Из заливаемых волнами мотоботов непрерывно откачивали воду. Подойти вплотную к берегу удалось далеко не всем, и десантникам пришлось высаживаться прямо в воду, неся оружие и снаряжение на вытянутых руках. Противник их встретил весьма развитой и эшелонированной системой огневых точек и укреплений. Моряки подверглись интенсивному огневому воздействию и стали нести очень большие потери. Из 700 человек вспомогательного десанта удалось высадить только 374, а из 3000 основного - лишь 1765.
Тем не менее попытки прорвать немецкую оборону не прекращались, несмотря на то что личный состав десанта вступил в бой сразу же после длительного перехода морем и не имел собственной артиллерии. Корабли охранения эффективной огневой поддержки оказать не смогли. Авиация 4-й воздушной армии прикрыть район высадки так и не смогла, в отличие от немецких ВВС, которые почти непрерывно бомбили атакующие советские части. Огонь батарей сухопутных сил с закрытых позиций был малоэффективен против множества небольших и хорошо замаскированных огневых точек противника.
Ситуация осложнялась еще и тем, что десантники стремились прорваться к высоте 71,3, на которой смогли ранее закрепиться части 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Для этого им было необходимо захватить высоту 164,5, господствовавшую над районом высадки и основательно укрепленную противником. Морякам-парашютистам и штрафникам приходилось буквально карабкаться, взбираясь с морского пляжа на крутые склоны под перекрестным пулеметным огнем. Бои продолжались двое суток и позиции не раз переходили из рук в руки. У десантников стали заканчиваться боеприпасы и продовольствие, а пополнить их не удавалось…
К этому времени в районе высоты 115,5 уже вели бой основные силы высадки в составе 166-го гвардейского стрелкового полка майора Г. К. Главацкого. Еще в момент десантирования они понесли потери, так как противнику удалось уничтожить семь мотоботов. Были уничтожены штабы батальонов и полка со средствами связи и корректировки артогня. Потери были и среди высшего комсостава десанта. Погибли командир высадки капитан 2-го ранга Н. К. Кириллов, начальник штаба парашютно-десантного батальона капитан Г. И. Марущак и штурман лейтенант Б. П. Бувин.
Но противник не собирался отступать и непрерывно контратаковал днем и ночью с использованием всех имевшихся у него средств, включая бронетехнику и авиацию. Ему удалось расчленить силы десанта. Возникла реальная опасность уничтожения высадившихся сил, и командующий Отдельной Приморской армией отдал приказ об их прорыве и соединении с частями 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Совместными усилиями это удалось сделать в районе высоты 164,5, но прорвать Булганакский укрепленный район, к которому относились немецкие позиции на этой высоте, так и не удалось. Советское командование было вынуждено перейти к совершенно иному варианту наступательной операции - обходу укрепрайона с юга частями 16-го стрелкового корпуса генерал-полковника К. И. Провалова. Необходимо отметить, что позиции в районе высоты 164,5 немцам удалось удержать до самой весны…
Точные цифры потерь в десантной операции у мыса Тархан так нигде и не были опубликованы. По самым оптимистическим оценкам, они составили не менее 40 % общей численности высадившихся сил. Вскоре после этих событий генерал И. Е. Петров был отстранен от командования Отдельной Приморской армией, а на его место был назначен генерал А. И. Еременко.
Хотелось бы отметить, что все четыре десантные операции, проведенные моряками-парашютистами Черноморского флота за время существования этого уникального спецподразделения, были непосредственно связаны с деятельностью генерала И. Е. Петрова. Именно он руководил обороной Одессы, где был высажен самый первый парашютный десант моряков, целью которого являлось обеспечение морской высадки, предназначенной для оказания помощи войскам, находившимся под командованием этого человека. Подобная ситуация имела место также во время боев под Новороссийском в феврале 1943 года и в районе Керчи в январе 1944-го. Только десант в Майкопе был проведен по инициативе ВВС ЧФ, но общее командование Черноморской группой войск на тот момент осуществлял опять же генерал Петров.
Очевидно, история создания и боевого применения парашютно-десантного подразделения Черноморского флота вполне может служить в качестве одного из примеров организации взаимодействия между сухопутными и морскими силами СССР в ходе Великой Отечественной войны. Вопрос заключается в том, насколько типичным следовало бы считать этот пример. Для того чтобы на него ответить, следовало бы рассмотреть схожий пример подобного взаимодействия. В качестве такого примера очень подходит история создания и боевого применения парашютно-десантных подразделений на Балтийском флоте СССР.
Согласно архивным документам приказ о формировании «парашютно-десантного отряда» в составе Краснознаменного Балтийского флота был отдан 23 апреля 1942 года за подписями заместителя начальника штаба КБФ контр-адмирала Петровского и военкома штаба КБФ бригадного комиссара Молодцова. В приказе, в частности, указывалось, что создаваемое спецподразделение флота должно быть укомплектовано «добровольцами из кадрового состава частей и кораблей КБФ» к 1 мая 1942 года, а «боевое сколачивание и подготовка» личного состава к выполнению операций должны быть закончены к 25 мая 1942 года . По сравнению со своими черноморскими коллегами балтийские моряки решили приступить к созданию аналогичного подразделения с большим размахом и энергией. В отличие от создаваемой примерно в это же время единственной парашютно-десантной роты ВВС ЧФ, Балтийский флот намеревался получить через месяц не одну, а целых две роты аналогичного назначения! Это тем более удивительно, если учесть, что балтийцы приняли такое решение после успеха парашютного десанта под Одессой 22 сентября 1941 года, т. е. тогда, когда на Черноморском флоте уже проводили опыты с моряками-парашютистами.
Но для такой поспешности можно найти некоторое обоснование. Дело в том, что к моменту принятия решения о создании парашютно-десантного подразделения в распоряжении командования имелся так называемый «отряд моряков-автоматчиков» под командованием капитана С. П. Маслова, который нес гарнизонную службу в Кронштадте. Личный состав этого подразделения в основном состоял из «отряда добровольцев», прибывших с полуострова Ханко, где они отличились в боях за эту военно-морскую базу и расположенные в ее окрестностях острова. Было решено создать на основе имеющего в своем составе опытных бойцов подразделения две парашютно-десантные роты со штатом в 128 человек каждая.
В соответствии с приказом о создании парашютного подразделения, 30 апреля 1942 года начальником ПДС ВВС КБФ майором Патраковым и начальником штаба ВВС КБФ полковником Игнатьевым руководству была представлена «Программа ускоренной подготовки парашютно-десантной роты Военно-Воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота», рассчитанная на 50 учебных часов. После множества согласований и расчетов срок обучения увеличился до 150 часов, а задачи обучения были конкретизированы. В частности, в распоряжении начальнику штаба ВВС КБФ от 5 мая 1942 года было указано: «…Боевую подготовку вновь формируемых парашютных рот целеустремите: 1. На действия в составе 2 рот вместе и раздельно в составе роты, взвода, отделения с умелым сочетанием действий каждого отдельного бойца. 2. В наземной подготовке действия бойца довести до автоматизма в одевании и снятии парашюта. 3. На отличное изучение материальной части парашюта ПД-41.
Главным во всей подготовке должна быть наземная подготовка.
Задача парашютных рот: 1. Действия в тылу врага при захватах западных ВМБаз. 2. Действия по захвату части побережья с целью подготовки плацдарма для высадки морского десанта. 3. Захват островов самостоятельно и во взаимодействии с морскими десантами…»
О готовности парашютно-десантных рот к выполнению боевых заданий было доложено командованию КБФ только 10 сентября 1942 года, а 10 октября эти подразделения были переданы в распоряжение разведотдела штаба КБФ. Успеть за месяц сделать то, на что черноморцы потратили пять месяцев, оказалось не под силу даже бравым балтийцам. Но ирония судьбы заключается в том, что все их усилия оказались совершенно напрасными. Им еще долго придется нести гарнизонную службу, тренироваться, участвовать в дозорах и боевом охранении на льду Финского залива, иногда ходить ночью в тыл противника «за языком» или просто «навести шум». Доводилось даже помогать местным жителям в уборке урожая на полях, так как в деревнях практически не осталось мужчин… Единственная десантная операция, в которой приняли участие роты моряков-парашютистов КБФ, была проведена только почти через полтора года, и высадка производилась не с самолетов, а с катеров… Речь идет о морском десанте на побережье Нарвского залива в районе деревушки Мерекюла 14 февраля 1944 года, т. е. примерно месяцем позже десантирования ПДБ ВВС ЧФ на северном побережье Керченского полуострова.
Прежде чем перейти к рассмотрению хода и результатов единственной десантной операции моряков-парашютистов на Балтике, представляется целесообразным вкратце описать сложившуюся на тот момент оперативную обстановку на данном участке советско-германского фронта.
К началу 1944 года в районе Ленинграда имело место следующее соотношение сил. Уже более двух лет здесь велись позиционные бои, в ходе которых обе стороны решали свои тактические задачи, так как основные стратегические ресурсы направлялись на другие участки огромного фронта.
От Ленинграда до Новгорода немецкое командование создало глубоко эшелонированную оборонительную систему - так называемый «Северный вал». Группе армий «Север» была поставлена задача позиционной борьбы по обеспечению фланговой безопасности всего северного крыла Восточного фронта. Но едва ли не большее значение придавалось прикрытию подступов к Прибалтике с ее военно-морскими базами, обеспечению морских сообщений со Швецией и Финляндией, а также сохранению Финляндии как союзника в войне. На 18-ю армию германское командование возложило выполнение частной задачи своего плана стабилизации Восточного фронта - продолжать осаду Ленинграда, систематический обстрел города и кораблей Балтийского флота.
Противостоявший этой армии Ленинградский фронт (командующий - генерал армии Л. А. Говоров, член Военного совета - генерал-лейтенант А. А. Жданов), обороняя частями 23-й армии позиции на Карельском перешейке, главными силами в составе 2-й ударной, 42-й и 67-й армий занимал рубеж от Финского залива до населенного пункта Гонтовая Липка, южнее Синявино. Приморская группа его войск при поддержке морской артиллерии Кронштадта, фортов Красная Горка, Серая Лошадь и кораблей продолжала удерживать во вражеском тылу небольшой плацдарм под Ораниенбаумом.
Краснознаменный Балтийский флот по-прежнему удерживал в Финском заливе острова Лавенсаари, Пенисаари и Сескар, но уже начал разрабатывать планы выхода на оперативный простор, за пределы Маркизовой лужи. Но основной задачей его кораблей, сосредоточенных на базах в Ленинграде и Кронштадте, пока по-прежнему оставалась артиллерийская поддержка действий приморского фланга войск Ленинградского фронта.
Господство в воздухе под Ленинградом было на стороне советской авиации. Она состояла здесь из 13-й воздушной армии, 2-го гвардейского Ленинградского истребительного авиационного корпуса (всего 461 самолет) и военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота (192 самолета). В составе Волховского фронта действовала 14-я воздушная армия (257 самолетов). Кроме того, для поддержки войск Ленинградского фронта Ставка Верховного Главнокомандования выделила 330 самолетов авиации дальнего действия.
Таким образом, к началу 1944 года под Ленинградом сложилась обстановка, благоприятствовавшая наступлению Ленинградского и Волховского фронтов. Они имели превосходство в силах и занимали выгодное оперативное положение, нависая со стороны ораниенбаумского плацдарма над левым крылом группы армий «Север» и полукольцом охватывая вражескую группировку под Ленинградом.
Вполне естественно, что советское командование стало подумывать о наступлении и на этом участке фронта. Цели разрабатывавшихся стратегических планов выглядели весьма впечатляюще: войска Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом и при содействии части сил 2-го Прибалтийского фронта, развернутого южнее Волховского, авиации дальнего действия и партизанских соединений должны были несколькими последовательными ударами разгромить фланги 18-й немецкой армии, отбросить противника от Ленинграда, освободить Новгород и, развивая наступление на Кингисеппском и Лужском направлениях, выйти на рубеж реки Луга. В дальнейшем планировалось нанести удар на Нарвском и Псковском направлениях, полностью вытеснить немцев из Ленинградской области и создать условия для последующих операций по освобождению Прибалтики и выводу из войны Финляндии.
Таким образом, наступательный порыв личного состава флота был исключительно высоким. Балтийцы рвались в бой, чтобы покончить наконец с изрядно затянувшейся позиционной борьбой и выйти на оперативный простор. Не последнюю роль в этом сыграла целенаправленная, хорошо организованная «партийно-политическая работа». В подготовительный период на корабли и в части были направлены опытные работники политического управления флота, которые оказали политическим отделам, партийным и комсомольским организациям помощь в планировании и проведении мероприятий по мобилизации воинов на успешное выполнение боевых заданий командования.
14 января 1944 года войска 2-й ударной армии при поддержке танков и морской авиации перешли в наступление в направлении Гостилицы - Ропша, чем положили начало общей наступательной операции на данном участке фронта.
Советские части, прорвав всю первую полосу обороны противника, 19 января штурмом овладели городом Красное Село и важным узлом дорог - Ропшей. На исходе дня советские ударные группировки соединились в районе Русско-Высоцкое, образовав общий фронт наступления. Клещи сомкнулись, и части вермахта, находившиеся в районе Петергоф - Стрельна. оказались отрезанными от своих главных сил.
В результате советского наступления по сходящимся направлениям 18-я немецкая армия понесла серьезные потери (только безвозвратные составили около 25 тысяч солдат и офицеров). Ей также не удалось сохранить владимирово-настоловскую группировку тяжелой артиллерии, обстреливавшую Ленинград (было утрачено 265 орудий, в основном крупного калибра).
Войска Волховского фронта утром 20 января овладели Новгородом. Таким образом, чтобы избежать фланговой угрозы, части 18-й армии были вынуждены маневрировать, отступая на всем фронте от Копорской губы до озера Ильмень. 67-я армия Ленинградского фронта, преодолев мощные оборонительные сооружения противника, овладела городом и важным железнодорожным узлом Мгой, который сами немцы называли «восточным замком» блокады Ленинграда.
24 января советские войска освободили города Пушкин и Слуцк, а в ночь на 26 января овладели мощным узлом сопротивления противника - городом Красногвардейск (Гатчина). С падением гатчинского узла сопротивления рухнул весь «Северный вал» германской обороны.
В честь полной ликвидации блокады Ленинграда 27 января в городе был дан салют доблестным войскам Ленинградского фронта и морякам Краснознаменного Балтийского флота 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
31 января части 2-й ударной армии форсировали реку Луга севернее и южнее Кингисеппа и 1 февраля овладели этим городом. Развивая успех, они форсировали также реку Нарва, захватили два плацдарма на ее левом берегу в районе города Нарва и начали бои за расширение их. Подразделения 42-й армии 4 февраля вступили в город Гдов. 67-я армия развивала успех в южном направлении.
К 15 февраля войска Ленинградского фронта овладели оборонительной полосой противника на рубеже реки Луги и вышли на рубеж река Нарва, восточное побережье Чудского озера, озеро Черное, Струги Красные, Шимск, продвинувшись на Нарвском направлении на 50–120 км. Войска Волховского фронта за этот же период продвинулись правым крылом на Лужском направлении на 120 км, а левым - до 50 км.
Тем временем 2-я ударная армия все еще продолжала вести бои за расширение плацдарма на левом берегу реки Нарвы и овладение городом Нарва, продолжавшиеся уже две недели.
Вот именно в этот момент возник замысел попытаться прорвать немецкую линию обороны в районе Нарвы при помощи морского десанта, высаженного в самом уязвимом месте неприятельских позиций - в районе Мерекюла - Лаагна - Аувере. По данным разведки, побережье в районе высадки охранялось только единственным батальоном СС и не имело сильных укреплений. Это не могло не повлиять на принятие решения о применении морского десанта для обеспечения прорыва фронта противника частями 2-й ударной армии, с последующим окружением и уничтожением нарвской группировки немецких войск. От моряков требовалось только прорваться к станции Аувере, захватить ее и удерживать до подхода армейских подразделений с юго-востока. Расчет строился на том, что десантникам потребуется продержаться не более трех дней до подхода основных сил…
Необходимо отметить, что сами немцы рассматривали Нарву как своего рода «ворота в Прибалтику» и придавали ее удержанию очень большое значение. Удерживая эти «ворота» под своим контролем, вермахт имел возможность прикрывать подступы к Восточной Пруссии и развертывать действия военно-морских сил в Балтийском море. Немецкое командование прекрасно понимало, что потеря Прибалтики неизбежно приведет к перенесению военных действий на территорию Германии.
Весьма вероятно, что разработчики совместной операции армии и флота по окружению нарвской группировки немцев в феврале 1944 года разделяли точку зрения своих оппонентов. Во всяком случае, им нельзя отказать в смелости и ясности стратегического мышления. Таким образом, моряки-парашютисты снова оказались в эпицентре борьбы, успех в которой имел уже не только оперативно-тактические, но и стратегические перспективы (первый раз подобная ситуация имела место во время битвы за Кавказ в октябре 1942 года). На этот раз на Прибалтийском направлении.
Для оказания содействия наступлению войск 2-й ударной армии в ночь на 14 февраля 1944 года был высажен морской десант на побережье Нарвского залива, в районе населенного пункта Мерекюла, под общим руководством командира Островной военно-морской базы контр-адмирала Г. В. Жукова (командир высадки капитан 2-го ранга Г. М. Горбачев).
Помимо двух парашютно-десантных рот КБФ, объединенных в так называемый «батальон автоматчиков», в состав сил высадки входили части усиления из состава 260-й Отдельной бригады морской пехоты КБФ (стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Ф. П. Заволокина, взвод автоматчиков из 1-го батальона бригады, взвод разведки, взвод саперов, взвод стрелков ПТР, санитарная часть, связисты и еще ряд более мелких технических групп). Общее руководство на поле боя осуществлял командир парашютистов майор С. П. Маслов. Всего в его распоряжении оказалось 516 человек. Основным оружием бойцов являлся автомат, но имелось также три 50-мм миномета, двенадцать противотанковых ружей, два станковых и двенадцать ручных пулеметов. Тяжелого вооружения не было, но каждый сапер подразделения имел при себе по 10 кг взрывчатки. Сухого пайка было выдано на двое сугок, а боезапаса и гранат - на три дня боя.
Десантники были скрытно доставлены с острова Лавенсаари к побережью Нарвского залива специально сформированным отрядом высадки из четырех бронекатеров и восьми малых охотников. Его переход обеспечивали тральная группа из десяти катеров-тральщиков Островной военно-морской базы и отряд кораблей артиллерийской поддержки в составе канонерских лодок «Москва», «Волга», «Амгунь» и восьми тральщиков. Прикрытие десантно-высадочных сил с воздуха было возложено на 1-ю гвардейскую истребительную авиадивизию флота.
Переход кораблей в Нарвский залив осуществлялся в тяжелой ледовой обстановке. Катера-тральщики в связи с этим пришлось возвратить на базу. Катерам отряда высадки проходы во льду прокладывали канонерские лодки.
Первыми около 4 часов утра подошли к берегу бронированные малые охотники БМО-180, БМО-181, БМО-501, БМО-505, БМО-508, БМО-509, бронекатер БКА-102, морской бронекатер МБКА-562. Противник был застигнут врасплох, и первый бросок десанта не встретил противодействия. Но вскоре с берега по району высадки был открыт плотный автоматно-пулеметный, а затем и артиллерийско-минометный огонь. Довольно быстро основные средства связи десантников были выведены из строя.
Высаженный десант действовал тремя группами, пробиваясь к железнодорожной станции Аувере на соединение с наступавшими войсками 2-й ударной армии. Моряки-парашютисты и морские пехотинцы, вооруженные стрелковым оружием и гранатами, сражались самоотверженно и смогли захватить станцию, разгромив по пути штаб 14-й (латышской) механизированной дивизии СС. Более ста часов они вели непрерывные ожесточенные бои в тылу врага, истребив до полутора тысяч солдат противника и около двух десятков танков, но неприятель атаковал почти без перерыва, используя все имевшиеся у него средства. Авиация и бронетехника немцев буквально «вбивали в землю» моряков беспрерывными атаками и бомбежками. Десантники так и не дождались подхода армейских частей к занимаемой ими позиции и в длительном неравном бою против превосходящих сил неприятеля почти все погибли. Вместо предусмотренных планом операции трех дней они удерживали позиции почти пятеро суток. В ночь на 20 февраля лишь отдельные бойцы смогли пробиться в расположение 2-й ударной армии.
Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л. А. Говоров так оценил действия группы Маслова: «Высаженный в районе деревни Мерекюла десант выполнил свою задачу тем, что отвлек значительные силы врага от обороны западного берега реки Наревы и тем самым значительно облегчил выполнение боевой задачи дивизиям Ленинградского фронта по захвату и расширению плацдарма» .
Действительно, к концу февраля частям 2-й ударной армии удалось расширить плацдарм на левом берегу реки Нарва до 35 км по фронту и до 15 км в глубину, отразив все попытки немцев вернуть утраченные позиции. Но выбить из рук противника ключи от «ворот в Прибалтику», т. е. взять город Нарва, советским войскам удалось только 26 июля 1944 года.
Геройская гибель солдат всегда удобна для тех, кто планирует военные операции. В случае успеха она подчеркивает значимость достигнутого, а в случае неудачи оттесняет на второй план просчеты и некомпетентность военачальника…
Если попробовать обобщить изложенную в данной статье историю парашютно-десантных подразделений советского флота, то можно сделать следующие выводы.
Создание спецподразделений моряков-парашютистов следует рассматривать скорее как импровизацию отдельных военных руководителей, а не общую тенденцию развития форм и методов вооруженной борьбы, характерную для советского флота. Как обстоятельства формирования, так и характер боевого применения свидетельствуют о том, что флотское руководство видело в парашютных подразделениях нечто вроде разновидности морской пехоты, предназначенной главным образом для вспомогательных действий по обеспечению боевого успеха обычных пехотных частей в прибрежной зоне. Как форму борьбы, обладающую уникальными возможностями, воздушный десант рассматривался лишь один раз - во время Майкопской операции, которую вполне можно считать наиболее успешной из всех проведенных моряками-парашютистами. Во всех остальных случаях командование флота не придавало особого значения их боевой специализации. Более того, когда возник вопрос о способе комплектования подобных частей, то решено было не создавать подразделений с постоянной штатной численностью, а оставить лишь кадр наиболее опытных бойцов и командиров, который бы пополнялся необходимым для решения конкретной задачи количеством людей непосредственно в ходе подготовки к операциям и лишь на время их проведения. Неслучайным представляется тот факт, что приказ о расформировании такого кадра на Черноморском флоте был издан 19 июня 1944 года, т. е. вскоре после ликвидации немецкой группировки в Крыму. Вероятно, командование флота решило, что парашютные подразделения ему уже больше не понадобятся, так как отпала необходимость в поддержке сухопутных сил при помощи спецчастей моряков… Возможно, армейское руководство уже не так остро нуждалось в поддержке флота… Но впереди еще предстояли бои на Балканах и в Южной Европе… Во всяком случае, на Дальнем Востоке моряки-парашютисты оказались бы весьма кстати в борьбе с японцами… Все равно пришлось высаживать множество воздушных десантов в приморской зоне, но это были парашютисты самого различного подчинения, но только не флотского.
Как бы то ни было, но за свой короткий период существования парашютные подразделения советского флота продемонстрировали, что воздушные десанты вполне могут быть высокоэффективным средством борьбы не только в интересах сухопутных войск, но и в интересах военно-морских сил. При тактически и технически грамотном его применении, разумеется.
В заключение хотелось бы провести одну любопытную параллель.
В книге Macao Ямабэ упоминается, что парашютные части японского флота были сформированы в 1941 году, а прекратили свое существование в 1944-м. Парашютно-десантные роты советского флота создаются и затем упраздняются примерно в этот же исторический период.
Японские моряки-парашютисты совершают два удачных воздушных десанта в своей истории - захват аэродромов противника на островах Тимор и Целебес в 1942 году.
Советские флотские парашютисты также совершают две удачные воздушно-десантные операции - высадку под Одессой в 1941-м и уничтожение авиатехники противника прямо на летном поле его авиабазы в Майкопе в 1942 году.
В японском флоте после двух удачных операций парашютистов используют как отборную пехоту в морских десантах, что приводит к их почти полному уничтожению противником.
В советском флоте последние операции парашютистов также носят характер морских десантов с большими потерями в личном составе.
Книга об истории создания и боевого применения парашютистов японского флота издается на русском языке в СССР через три года после выхода в свет в самой Японии.
История создания и боевого применения парашютных подразделений советского флота в годы Великой Отечественной войны до сих пор не написана… Немногие знатоки отечественной истории флота вообще знают о том, что такого рода части существовали.
Примечания:
Цит. по: Смирнов С. С. Брестская крепость. - М.: Изд. «Раритет», 2000. - С. 27–28.
Цит. по: История Коммунистической партии Советского Союза. - М., 1970. - Кн. 1. - Т. 5. - С. 211.
Цит. по: История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. - Т. 2. - С. 113.
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. - Т. 2. - С. 114.
Цит. по: Кузнецов Н. Г. Курсом к победе, с. 105.
Цит. по: Карев Г. А. Одесса - город-герой. - М., 1978. - С. 98.
ЦВМА. Ф. 141. Д. 39933. Л. 13–16.
Цит. по: Вертикальный охват. - М., 1981. - С. 49–50.
ЦВМА. Ф. 9. Д. 8527. Л. 30–31.
Цит. по: Гринкевич В. И. Разве можно забыть Мерекюла? - М., 1979. - С. 63.
Летом солнце поднимается рано. Едва вечерняя заря успеет сдать свою вахту, как на востоке начинает алеть, а вскоре из-за горизонта выкатывается багрово-красный диск дневного светила.
Тихо, безветренно. Лишь в вышине заливается жаворонок, да в пожухлой траве монотонно стрекочут кузнечики.
Несмотря на ранний час, душно, жарко. Только что в эту безлюдную степь прибыла группа офицеров штаба во главе с генералом М. Т. Тонкаевым. Офицеры толпятся около маленького столика, у которого примостились со своими журналами и секундомерами штурман и планшетист. Генерал посмотрел на часы и негромко, как бы про себя, отметил:
— Сейчас начнется...
Что именно начнется - офицерам объяснять не требовалось. Сегодня на этой равнине им предстояло принять с тяжелых воздушных кораблей Ту-4Д, летящих на большой скорости, массовый воздушный десант. Такой эксперимент проводился впервые.
Все быстро поднимаются со своих сидений. А вот и знакомый, но всегда тревожно звучащий сигнал: «Пошел!».
Десантники один за другим устремляются к люку и исчезают в серой пустоте.
Настал момент прыгать и выпускающему. Владимир Доронин делает шаг, другой и, привычно нагнувшись, головой вниз бросается в свистящую от врывающегося потока воздуха бездну. В лицо ему тут же ударила тугая волна, повернула тело и с силой швырнула в сторону.
Потом он почувствовал рывок. Но не такой, как бывает при раскрытии купола основного парашюта, а слабый, едва ощутимый. «Что-то неладно!» - обожгла мысль. Доронин поднял голову и увидел над собой белый язык полотнища. Основная же часть купола, скрутившись в жгут, извивалась, зажатая прочными стропами парашюта.
Владимир хорошо знал, чем это угрожает.
- Но если сейчас раскрыть запасной парашют,- подумал Владимир,- то он, вырвавшись из ранца, может обвиться вокруг жгута основного парашюта, и тогда - конец.
Выждав удобный момент, Владимир рванул кольцо запасного парашюта и услышал, как раздался знакомый хлопок. Парашют наполнился воздухом. Стремительное падение прекратилось.
Приземлившись на запасном парашюте, Владимир отстегнул подвесную систему и, с наслаждением растянувшись на прогретой земле, уткнулся лицом в траву. Боже мой, как же приятно пахнут эти травы, какой первозданный аромат источает сама земля, как громко стрекочут кузнечики. Почему же он раньше не замечал этого, не испытывал жгучей радости и от этих запахов, и от этих звуков? А сердце стучало громко, с ликованием: жив, жив! Через некоторое время он с трудом встал на ноги, осмотрелся. Неподалеку в траве лежали три десантника, а рядом белели потухшие и сморщенные полотнища парашютов. Уж не случилась.ли с ними беда?
Но десантники одновременно, как по команде, поднялись, собрали парашюты и направились в сторону Доронина. К месту сбора торопились и другие парашютисты.
- Что случилось? - спросил офицер одного из парашютистов, который минуту назад лежал неподвижно в траве. Парень, заикаясь, ответил:
- Ку-пол ра-а-зорвался...
Такая же история, оказывается, произошла и с его товарищем.
В это время над площадкой приземления появилась очередная девятка самолетов. Один за другим посыпались сверху десантники. Небо побелело от парашютов. С одним, из десантников случилось что-то неладное. Обогнав товарищей, он продолжал стремительно мчаться к земле. За ним тянулся скрученный жгут нераскрывшегося парашюта.
Владимир и трое подошедших к нему десантников, затаив дыхание, наблюдали, как приближается к земле попавший в беду человек.
- Рви кольцо запасного! - крикнул Доронин, как будто десантник мог услышать его совет. Но, к радости всех наблюдавших, над десантником раскрылся наконец-то купол запасного парашюта.
Когда опустился на землю последний десантник, Владимир направился на пункт сбора. Там находился генерал. Ему Доронин начал было докладывать о случившемся. Но генерал резким жестом остановил его:
- Знаю. Все знаю.
В тоне генерала Владимир уловил раздражение. Шутка сказать: выброска десанта чуть не закончилась гибелью нескольких человек.
Что за причина? Почему купола основных парашютов в ряде случаев не сработали, а у Доронина основной купол вывернуло наизнанку, порвало и почти полностью закрутило в тугой жгут? У трех человек стропы парашютов закрутило на всю их длину, и купола, как принято называть, оказались «задавленными». В двух случаях неведомая, сила свернула полотнища основных парашютов в комок и завязала их стропами.
Позже выяснилось, что несколько человек в момент раскрытия парашютов от сильного динамического удара потеряли сознание, другие свободными концами подвесной системы получили сильные ушибы головы и лица.
Вечером на полевую площадку, где высаживался десант, прибыла группа офицеров и генералов из штаба ВДВ. Такого явления, когда в работе отказали сразу около десяти парашютов, за всю историю ВДВ не отмечалось. В штабе встревожились: Д-1, верой и правдой служивший десантникам не один год, вдруг дал осечку.
Срочно создали комиссию. В нее вошел как ведущий инженер по испытаниям и Владимир Доронин. Специалисты дотошно осматривали каждую складку парашютов, на ощупь проверяли стропы, открывали и закрывали ранцы, надеясь найти хотя бы малейшую зацепку. Но тщетно. Каких-либо изъянов в парашютах не обнаружили.
В чем же тогда дело? Этот вопрос обсуждался на совещании специалистов. Говорили горячо, запальчиво, порою спорили. В конце концов пришли к выводу: виной всему скорость, на которой совершались прыжки с самолетов. Старый, верный Д-1 оказался не в ладах с нею.
- Что же нам делать? - спросил участников совещания генерал, руководивший операцией по выброске десанта.- Вернуться обратно к тихоходам? Но это не выход. В ближайшее время мы получаем новые, еще более скоростные самолеты. Ваше мнение, товарищ Доронин?
Генерал знал Владимира как мастера спорта, изобретателя многих приборов, нашедших широкое применение в войсках.
- С ходу дать объяснение, товарищ генерал, не могу,- ответил Владимир.- В одном твердо убежден - Д-1 для прыжков со скоростных самолетов не пригоден. Надо создавать что-то новое. Разработка нового парашюта велась и ранее. Появились даже отдельные образцы. Но практического применения они не нашли: парашюты оказались тяжелыми, громоздкими.
Созданием нового образца занялись Доронины. Логика подсказывала изобретателям, что поскольку на больших скоростях полета в сильно возмущенном потоке воздуха Д-1 ведет себя ненормально, значит, надо искать принципиально новую, последовательную схему вступления его в действие. Поэтапное вступление парашюта в работу должно гарантировать не только безотказное и нормальное раскрытие основного купола, но и довести большую динамическую нагрузку, испытываемую десантником, до нормальных пределов.
Доронины сделали сотни всевозможных расчетов, проверяя разработанные конструкции в воздухе. Для этого пришлось многократно прыгать со скоростных самолетов самим, а в особо опасных случаях поручать эксперимент безотказному «Ивану Ивановичу». В конце концов картина, как на фотобумаге, опущенной в проявитель, предстала перед ними довольно отчетливо.
Как только десантник покидает самолет, за его плечами раскрывается небольшой по площади купол стабилизирующего парашюта. В сильно возмущенном потоке воздуха он немедленно устанавливает человека ногами вниз по ходу полета, прекращает его беспорядочное кувыркание, снижает скорость падения.
Вместе с тем стабилизирующий парашют вытягивает из ранца еще и верхнюю часть уложенного в чехол основного.купола - шлейф, на котором десантник и осуществляет стабилизирующее снижение до нужной высоты. Потом срабатывает прибор-автомат ППД-10 или КАП-3, освобождая стабилизирующий парашют, а тот в свою очередь, легко «вынимает» из внутреннего кармана ранца остальную часть основного купола, стягивает с него чехол и тогда уже купол полностью выступает в работу.
Теперь парашютист мог быть твердо уверен, что неожиданности, которые дали о себе знать при выброске массового десанта на большой скорости полета, его уже больше не подстерегают. Стабилизирующий парашют гарантирует нормальное раскрытие основного парашюта независимо от скорости полета самолета, предохраняет от сильного динамического удара и всякого рода травм.
Использование нового десантного парашюта, получившего наименование Д-1-8, в значительной степени способствовало бурному развитию транспортной скоростной авиации. Он прошел государственные и войсковые испытания и был принят на вооружение ВДВ и ВВС. Первыми его испытателями стали сами изобретатели и их друзья В. Г. Романюк, Н. К. Никитин, А. В. Ванярхо. С Д-1-8 прыгали из самолетов Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ту-4Д и других, и во всех случаях он вел себя безупречно.
Испытания, а также массовые десантирования на различных войсковых учениях со скоростных самолетов позволили сделать вывод, что предложенная Дорониными схема последовательного введения в действие десантных парашютов не имеет себе равных. Достоинство ее состояло в том, что исключалось попадание вытяжных парашютов в стропы основных куполов. Стропы вытяжного парашюта теперь уже не могли зацепиться за ноги, голову, вооружение, снаряжение десантника.
Раньше во время прыжков стропы основного купола довольно часто завязывались так называемыми «механическими узлами», защемляли нижние кромки куполов. Иногда стропы перехлестывали купола и, естественно, не позволяли им нормально работать. А как страдали люди, когда свободные концы подвесной системы ударяли по лицу или по голове. Теперь таких явлений уже не наблюдалось.
Последовательная схема вступления в действие Д-1-8 в два-три раза уменьшила динамическую нагрузку на человека, потому что скорость падения гасилась постепенно.
Немаловажное значение имел и тот факт, что парашютист сразу же после отделения от самолета занимал положение ногами вниз по потоку. Он не испытывал ни кувырков, ни сильных вращений, имел хороший обзор окружающего пространства и удобный доступ к вытяжным кольцам основного и запасного парашютов, если бы в случае нужды довелось ими воспользоваться.
Очень важным было и такое обстоятельство. Новый парашют не исключал, а предполагал использование любых, ранее выпущенных серийных куполов, ибо стабилизирующий парашют брал значительную долю динамической нагрузки на себя. Серийные купола оставались прежними.
Все это дало большой экономический эффект. Если подсчитать стоимость материала, затраченного ранее на производство парашютов, представить в денежном выражении труд заводских коллективов, то получится цифра, составляющая миллионы рублей.
Главное же состояло в том, что в течение двух лет все воздушно-десантные и авиационные части были обеспечены новыми, пригодными для прыжков со скоростных самолетов парашютами.
Доронины создали не только сам парашют. Они разработали применительно к нему оригинальный двухконусный замок стабилизирующей системы, ввели автоматы, раскрывающие парашют, использовали ранец парашюта в качестве силовой системы, принимающей на себя динамические нагрузки. Все это явилось весомым вкладом в развитие отечественной парашютно-десантной техники, утвердило приоритет нашей Родины в данной области.
Дорониным принадлежит основная заслуга в разработке Д-1-8. Но вместе с ними над его созданием трудились и другие специалисты: инженер-конструктор Ф. Д. Ткачев, который ранее создал для Д-1 купол круглой формы, конструкторы А. Ф. Зимина, И. М. Артемов, С. Д. Хахилев, И. С. Степаненко, разработавшие бесстропный шаровой вытяжной парашют, полковники В. П. Иванов, М. В. Арабин, А. В. Ванярхо, А. Ф. Шукаев, Н. Я. Гладков, инженер-подполковник А. В. Алексеев, начальник политотдела соединения полковник И. И. Близнюк.
Испытания нового парашюта проводились под руководством генералов С. Е. Рождественского, А. И. Зигаева и И. И. Лисова.
Появление парашютов Д-1-8 сказалось на повышении боевой готовности воздушно-десантных войск. С ними десантники прыгали со скоростных самолетов на крупнейших войсковых учениях «Днепр», «Двина», «Юг».
Летом 1967 года на аэродроме Домодедово под Москвой состоялся воздушный парад. Он был посвящен пятидесятилетию Советского государства. Участники и зрители этого грандиозного праздника наверняка помнят такую картину: с западной стороны аэродрома появилась армада тяжелых воздушных кораблей. Шли они в плотном боевом строю. Вскоре небо над аэродромом расцветилось яркими куполами.
А самолеты все шли и шли. Одни десантники покидали самолеты, другие, приземлившись, устремлялись на выполнение боевой задачи. Свыше тысячи человек с оружием в руках за рекордно короткий срок опустились тогда на землю. Это было захватывающее и незабываемое зрелище.
Массовый парашютный десант со скоростных самолетов! Он стал возможен благодаря тому, что на вооружение армии поступила новая техника. И еще потому, что появился парашют Д-1-8. У него оказалась высокая
надежность.
В одном документе, подписанном командующим ВДВ генерал-полковником В. Ф. Маргеловым 10 мая 1967 года, говорится:
«Десантный парашют Д-1-8 имеет принципиально новую последовательную схему введения его в действие, что позволило ВДВ и ВТА нормально вести боевую подготовку личного состава по совершению прыжков со всех типов современных самолетов на скоростях полета до 400 км/ч по прибору и постоянно находиться в боевой готовности десантирования. Это убедительно было продемонстрировано на воздушном параде в 1961 году в Москве и на многих учениях стран Варшавского Договора и дважды получало высокую оценку Маршала Советского Союза тов. Малиновского Р. Я. в его выступлениях на XXII и XXIII съездах КПСС. В настоящее время на парашютах Д-1-8 совершено более трех миллионов прыжков, и они "показали высокую надежность в действии».
А между тем волей случая этот парашют мог бы и не увидеть свет, не прими в его судьбе участие командующий воздушно-десантными войсками В. Ф. Маргелов. Он проявил дальновидность, решительность, взял на себя ответственность, когда судьба нового изделия висела на волоске.
Случилось это на первой стадии войсковых испытаний, когда в послужной список Д-1-8 было внесено всего лишь сто пятьдесят прыжков. Один из десантников поспешил покинуть самолет и во время прыжка допустил ошибку, которая стоила ему жизни. Свободная часть купола основного парашюта попала ему под ноги в изгибе колен, обхватила снизу. Парашютист, падая вниз-спиной, не принимал никаких мер к изменению положения тела. Видимо, у него наступил шок.
Все сосредоточили свое внимание на черной точке, стремительно приближающейся к земле. Наконец над человеком взметнулся купол запасного парашюта. Но было уже поздно. Чтобы остановить стремительное падение, десантнику не хватило каких-нибудь десяти - пятнадцати метров высоты.
В чем причина гибели парашютиста? Потерял, видимо, парень сознание, говорили одни. Другие же подводили под ЧП иную базу: парашют, мол, до полной кондиции не доведен и с войсковыми испытаниями лучше было бы повременить.
Страница
1 - 1 из 2
Начало | Пред. |
1
|
След. |
Конец
| Все
Фёдор ЛУШНИКОВ

1*





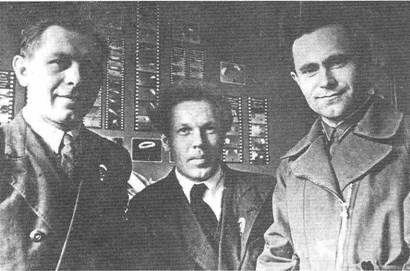

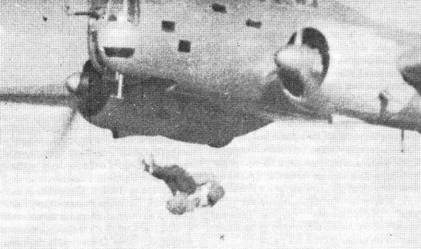
2

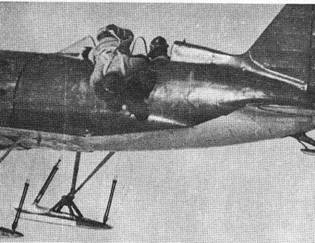
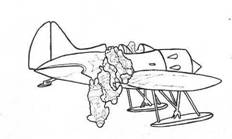

Максимилиан САУККЕ Москва
Примечания:
Штрихи к истории парашюта и катапульты Часть первая. Парашют
Американская пресса освещала визит русского эксперта
Весной 1929 г. тридцатилетний военный летчик Леонид Минов был командирован в США для изучения постановки парашютного дела в этой стране.
Изучать было что. "В настоящее время, – пишет Минов после возвращения на родину, – когда в США зарегистрировано больше двухсот случаев спасения на парашюте, когда изучение парашюта стало неотъемлемой частью программы подготовки летчиков, когда чуть ли не ежедневно на гражданских и военных аэродромах выполняются добровольные тренировочные прыжки в одиночку и группами (общее количество которых перевалило уже за 25 тысяч), можно сказать, что в авиации США парашют занял то почетное место, которое должно быть отведено ему в авиации всех стран".
В семейном архиве супруги ныне покойного Леонида Григорьевича есть документ, названный "Удостоверением", который подписан президентом парашютной компании "Ирвинг эйр Шют" Джорджем Уайтом. В нем читаем: "Настоящим удостоверяется, что гражданин СССР Л.Г.Минов прошел курс обучения по инспекции, уходу, содержанию и употреблению парашютов, изготовленных парашютной компанией "Ирвинга". Далее в тексте сообщается, что Минов совершил три парашютных прыжка с аэроплана (рассказ об одном из них помещен в газете "Буффало курьер экспресс" 14 июня 1929 г.)
И заключение – "По нашему мнению, он (Л.Минов – В.Л.)вполне квалифицирован для преподавания употребления парашютов Ирвинга, а также для их инспекции, ухода и содержания".
Это мнение о пребывании Минова в США сложилось в год, когда массового парашютизма и, конечно, парашютостроения в нашей стране не было. Таланту Минова, его незаурядным организаторским способностям, мастерству пропагандиста мы обязаны тем, что это "не было" превратилось в "есть". Минов внес выдающийся вклад в развитие у нас массового спортивного парашютизма, в дело парашютной подготовки летного состава ВВС, в организацию воздушно- десантных войск. Советская власть "отблагодарила" его по-своему: с июля 1941 г. семь или восемь лет ГУЛАГа и еще столько же в ссылке.
В упоминавшейся статье Минов пишет о том, что до середины 20-х гг. в среде летчиков США бытовало недоверие к парашюту. Подобное было и у нас. Интерес к парашюту и осознание необходимости изучения парашютного дела проявились после 1927 г., когда парашют системы "Ирвинг" спас жизнь Михаилу Громову.
В те же годы бригадный инженер Михаил Савицкий возглавил парашютный отдел в НИИ ВВС. Испытывались и изучались парашюты различных иностранных фирм и отечественный конструкции Котельникова. Выбор пал на изделие той самой фирмы "Ирвинг эйр Шют".
На технологию его производства была приобретена лицензия, и вскоре в цехах фирмы "Ирвинг эйр Шют" появился Савицкий.
Газета "Буффало курьер экспресс" 11 июня 1930 г. сообщала, что прибывший "мистер Савицкий имеет намерение провести месяц для тщательного изучения технологии производства и применения парашютов в авиации".
Возвратившись в том же году в СССР, М.А.Савицкий стал директором первого в нашей стране парашютного завода, разместившегося в небольшом здании в Арсентьевском переулке Замоскворецкого района Москвы. Через два года завод перебазировался в более просторные строения бывшей ситценабивной фабрики в Тушине. Уже в 1934- 1935 гг. его производственные мощности обеспечивали тысячные десанты на известных маневрах Киевского и Белорусского военных округов.
Через год-полтора завод еще раз поменял свой адрес. В Тушине для него с чисто российским размахом построили новые просторные цеха. Савицкий, под эгидой которого новый завод проектировался и возводился, успел переместить производство на новое место, но на том его карьера директора и оборвалась.
Мы не умеем ценить не только поэтов. Савицкий по достоинству занял почетное место рядом с Миновым в истории парашютного дела в России. Приведенные выше факты свидетельствуют о его таланте организатора производства. Он обладал и развитым чувством нового – ведь именно в период его директорства на парашютном заводе появились молодые выпускники мехмата МГУ Федор Чуриков и Игорь Мухин, расцвел инженерный потенциал Николая Лобановы, Игоря Глушкова, Федора Ткачева, которым суждено было стать капитанами нашей парашютной промышленности. При нем Николай Остряков совершил первый прыжок с парашютом невиданной квадратной формы, который по ряду параметров превзошел круглокупольный "Ирвинг".
В 1936 г. пишущий эти строки кинооператор студии "Мостехфильм" (ныне "Центрнаучфильм") переступил порог нового тушинского парашютного завода в качестве штатного служащего. Предстояло выполнять скоростные (рапидные) авиакиносъемки летных испытаний парашютов и организовать лабораторию, в которой отснятую кинопленку можно было бы незамедлительно проявить, позитивы напечатать и подвергнуть анализу отснятый материал.
Пожалуй, из всех моих умений (фото и киносъемка, лабораторная обработка кинопленки и пр.), на новой работе больше всего пригодилось владение азами техники изучения движений по кинофильму и циклограммам. Оказалось полезным и то, что я знал о парашютных прыжках не понаслышке – их у меня было больше 10.

JI.Г.Минов(справа) и М.А.Савицкий в 1960 г.
Новый парашютный завод, скрывшийся под названием завода N5 1 НКАП СССР, совсем не походил на швейную фабрику, с чем в обыденном сознании обычно связывают представление о парашютном производстве. Был в нем, конечно, обширный, размером с два футбольных поля, швейно-монтажный цех. Но были и цеха для изготовления различных металлических деталей парашютов, начиная с кузнечно-прессового и кончая отделочным – гальваническим. Но даже не это было главным отличием от швейной фабрики. Главное же, на мой взгляд, в том, что на заводе в полную силу работал мозговой центр, выпестованный тем же Савицким. И примечательно, что почти все, кого я знал в этом мозговом центре, были ослепительно молоды. По 25, если не менее, было Н.Лобанову и Ф.Чурикову, когда в 1936 г. они опубликовали вышедший в Гизлегпроме труд "Основы теории и расчета парашютов". Книга эта в течение долгого времени служила теоретическим фундаментом в парашютостроении.
Материальным же фундаментом этого производства стали различные лаборатории, в которых можно было подвергнуть всесторонним испытаниям любые применяемые в парашютостроении материалы и полуфабрикаты. Среди этих лабораторий была и моя кинофотолаборатория, получившая первоклассную импортную съемочную аппаратуру.
В составе заводской летно-испытательной станции (Л ИС)имелись два Р-Зет, два СБ, один У-2 и один учебно-тренировочный истребитель УТИ-4 (двухместная модификация И-16). Последний был приобретен незадолго до войны специально для киносъемочных полетов.
Я приступил к работе на парашютном заводе в период, когда его летная станция была загружена чрезвычайно. В небе над тушинским аэродромом то и дело вспыхивали купола парашютов, сброшенных с манекенами. Прыжки испытателей были редки, так как безгласный манекен, как ни странно, был более красноречив, чем самый опытный из них.
"Красноречие" манекена объясняется просто: он всегда сбрасывается с одной и той же высоты в 300 м, значит, в зоне ясной видимости, что существенно облегчает хронометражные наблюдения; сбрасывание манекена происходит на скорости полета, в 2-3 раза превышающей таковую при испытательных прыжках – возможны, следовательно, испытания на прочность; и еще одно, далеко не последнее, преимущество – раскрытие парашюта в случае сбрасывания манекена происходит всегда на заданном расстоянии от самолета. Все это позволяет производить сравнительную оценку разных типов и модификаций парашютов.
Слабым звеном в этой методике испытаний были визуальные наблюдения. Опытный наблюдатель мог, к примеру, заметить перехлест купола стропой во время его наполнения воздухом, но о причинах этого, кстати, нередкого явления можно было строить только предположения.
Шестьдесят лет тому назад не было другого способа, кроме кино, который мог бы показать, как развивается процесс раскрытия парашюта, какие при этом возникают аномалии и каковы их причины.
Одним словом, у меня и моей кинокамеры было много работы на борту летящего параллельным курсом самолета. Слесари-механики парашютного завода ухитрились повысить скорость моего "Аймо" с 48 до 64 кадров в секунду, а вскоре из США прибыл уникальный узкопленочный "Фильмо", снимавший в секунду 128 кадров.
Жизнь научила меня не только искусству кинооператора. Я немного владел техникой изучения движений по киноленте и циклограмме . Владел и приемами ручной лабораторной обработки отснятой кинопленки, а все те же заводчане изготовили все, что для этого потребно (старенький кинокопировальный аппарат раздобыл в НИИ ВВС).
И вот через день-другой после очередных киносъемочных полетов в небольшой просмотровый зал моей лаборатории стали заходить конструкторы, испытатели парашютов, летчики заводской ЛИС, военпреды.
Кстати, в договоре с военной приемкой существовал пункт об обязательной киносъемке некоторых испытаний парашютов. Чем же объяснить интерес к моим съемкам, которые были, конечно же, далеки от совершенства?
Как известно, скоростная киносъемка замедляет движение объектов во столько раз, во сколько ее съемочная частота, то есть количество снимаемых в секунду кадров, превышает частоту кинопроекции.
Обычно считают, что для плодотворного изучения посредством скоростной киносъемки быстропротекающих процессов главное – это их экранное замедление. Это верно, но только отчасти. Главное в скоростной киносъемке парашюта – это возможность детального визуального изучения фаз раскрытия парашюта или техники парашютного прыжка, соединенная с возможностью точного определения их продолжительности и измерения их положений в пространстве. Поэтому одинаково важны как просмотры парашютных фильмов, при которых движение замедляется, так и пристальное рассматривание отдельных, вычлененных из киноленты кадров, изображающих наиболее информативные фазы отснятого процесса.
Путем счета кадров, приходящихся на определенную фазу раскрытия парашюта, определяется, кстати, и ее продолжительность. Такой кинохронометраж примерно на порядок точнее хронометража с секундомером.
На увеличенных фотоотпечатках с киноленты делают и необходимые измерения, скажем, определяют расстояние между телом парашютиста и покинутым самолетом в момент приведения парашюта в действие.
В качестве иллюстративного приема полезны и так называемые кинограммы. Анализ кинокадров показал, в частности, что вытяжной парашютик далеко не всегда выполняет свое назначение. В каком-то случае он не тянет купол и стропы потому, что зацепился за лямки подвесной системы; в другой раз обнаружились перекрученные и неравномерно натянутые стропы; довольно часто наблюдается перехлест купола стропами; однажды кадры показали обрыв строп; зафиксировано и зацепление вытяжного парашюта за ногу парашютиста (к счастью, не имевшие нежелательных последствий), вот и порыв купола.
1* Циклографическая съемка – особый вид фотографирования движений при помощи светящихся миниатюрных лампочек, расположенных на теле человека.




Испытания ПЛ-З в Сарабузе. 1937 г. Следующие три фото:
"Детские болезни" новых парашютов беспорядочная форма купола, перехлест купола стропами, порыв купола

Перегрузки сначала опробовались на собаках
Эти материалы сохранил ныне здравствующий заслуженный изобретатель Российской Федерации И.Л.Глушков. Немало часов мы разглядывали с ним, сидя за монтажным столом, движущиеся и статичные кадры воздушных киносъемок. Глушков установил, в частности, что первопричина многих аномалий в раскрытии парашюта – недостаточная тяга вытяжного парашютика. "Когда нет натяжения в системе, – пояснил Игорь Львович, – стропы беспорядочно скапливаются у нижней кромки купола, которая опережает в своем движении верхнюю его часть. При таком развитии процесса какая-то стропа иногда наматывается на купол и он разделяется ею на две неравные части – меньшую и большую. Идет двойное наполнение воздухом – через основное входное отверстие и образовавшуюся меньшую часть. Получается так, что встречаются два своего рода пузыря и большой скидывает стропу с захлестнутой части. При этом от трения повышается температура стропы и ткани купола. А результат – спекание или ожог (чаще говорят так – (З.Л.)ткани купола. В этом месте она теряет прочность, а стропа даже на ощупь делается тоньше. Как образуется перехлест купола стропой, простым глазом не заметишь. Тут помогла киносъемка".
Изначальная функция парашюта – спасательная. Тренировочные, десантные, грузовые, тормозные и прочие парашюты вторичны, производны. Но военная доктрина 30-х гг. была такова, что десантный парашют стал на заводе № 1 НКЛП СССР основным и наиболее массовым видом продукции. И все же производство спасательных парашютов летчика (ПЛ)и летнаба (ПН)развивалось, а их конструкция и технология изготовления улучшались, хотя, быть может, и не столь быстрыми темпами. После первого прыжка Н.Острякова с квадратным парашютом конструкции Н.Лобанова понадобилось примерно пять лет, прежде чем наиболее совершенный из всех предвоенных парашютов летчика ПЛ-З поступил в серийное производство.
Движущей силой на этом пути стало увеличение скоростей полета боевых самолетов в 1,5-2 раза и соответственное увеличение перегрузок парашютного прыжка.
Ведь в аварийной ситуации парашют может быть раскрыт летчиком тотчас после оставления им кабины самолета, то есть на скорости лишь чуть меньшей, чем перед прыжком. Так называемый динамический удар при раскрытии парашюта переносился человеком сравнительно легко, пока перегрузка не превышала 5-6 крат.
Но вот в испытаниях с манекенами на больших по тем временам скоростях (при форсировании двигателей заводские Р-Зет и СБ развивали 240 и 360 км/ч соответственно) динамометры начали фиксировать в 2-3 раза большие цифры. Одновременно участились случаи ожогов и надрывов ткани купола.
Развернулись интенсивные летные испытания разных типов и модификаций парашютов. Ставилась задача выяснения причин упомянутых нежелательных явлений.
Лучшие результаты показали парашюты с куполом квадратной формы. При прочих равных условиях коэффициент сопротивления квадратного купола на 10 % выше, чем у круглого; при тех же условиях его площадь меньше на столько же; он технологичнее в производстве.
Победа квадратного купола над круглым оставалась до поры до времени победой техники и технологии производства. Закрепить ее могли только испытательные прыжки на скорости боевых самолетов того времени. А это означало, что испытателю грозит перегрузка порядка 10-12. Выдержит ли ее человеческий организм?
Вопрос этот предстояло решить в рамках государственных испытаний парашюта ПЛ-2 с куполом квадратной формы.
Испытания состоялись в октябре 1937 г. на военном аэродроме в Сарабузе близ Симферополя. Лучшие армейские парашютисты и испытатели парашютов из НИИ ВВС оставляли заднюю кабину самолета СБ. Раз за разом повышалась скорость, на которой они покидали самолет. Все прыжки снимались мною с параллельно летящего УТИ-4.
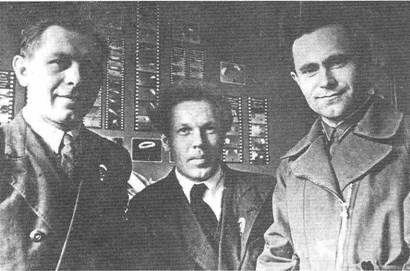
Вверху: Конструкторы советских парашютов. Справа налево: Н.А.Лобанов, И.Л.Глушков и Ф.Д.Ткачев

В центре: Участники Первого всеармейского сбора в Ростове-на-Дону. Слева направо: А.И.Колосков, П.А.Федюнин, Г.Г.Куликовский
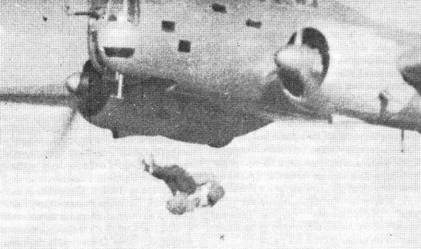
Внизу: Сбор в Ростове-на-Дону. Прыжок испытателя из кабины штурмана
На госиспытаниях в Сарабузе была достигнута неслыханная для прыжка с парашютом скорость оставления самолета – 272 км/ч. Перегрузка, достигшая 12, не вызвала осложнений. Человек выдержал. Квадратный парашют ПЛ-2, площадь которого на 4,5 м2 меньше, чем у его круглокупольного предшественника ПЛ-1, был принят ВВС. Замечу кстати, что купол ПЛ- 2 был изготовлен из гладкого шелка.
В 1938 г. специалисты парашютного завода, зная о существовании новых боевых самолетов и предвидя дальнейшее увеличение нагрузок скоростного парашютного прыжка, первыми сделали шаг в направлении медицины.
Рассудили так: прежде чем подвергать риску такого прыжка человека, надо рискнуть на собаках. Собачьи парашюты сделали такими, чтобы получить особо высокие нагрузки.
Предшественницы Белки и Стрелки переносили неслыханно высокие перегрузки, и медики сделали вывод – семафор на пути к скоростным прыжкам человека открыт. Совпало это заключение и с необходимостью государственных испытаний очередной модели спасательного парашюта летчика – ПЛ-З.
Квадратный купол этого парашюта был скроен из каркасного шелка, идею которого предложил М.А.Савицкий ещё в бытность свою директором парашютного завода. В эту ткань через определенные промежутки включались упрочняющие нити.
Каркасный шелк отличался от гладкого большей воздухопроницаемостью, а это означало, что, при прочих равных условиях, перегрузки парашютного прыжка станут меньше.
Достигалось это за счет более пологой кривой градиента её нарастания, платой за что было некоторое увеличение времени наполнения купола парашюта и его площади: она у ПЛ-З была лишь на 0,5 м меньше, чем у парашюта ПЛ-1.
Госиспытания ПЛ-З состоялись в мае – июне 1939 г. в авиачасти близ Ростова-на-Дону. Парашют показал отменные качества – по прочности и упорядоченности процесса раскрытия он позволял выполнять прыжки на скорости, превышающей 400 км/ч.
Упомянутые госиспытания этого парашюта имели, на мой взгляд, еще один и более важный, чем просто технический, аспект. На них впервые работала группа крупнейших специалистов по авиационной медицине.
В организации и проведении скоростных прыжков с парашютом ПЛ-З приняли деятельное участие три научных сотрудника Института авиационной медицины им. И.П.Павлова – бригадный врач Г.Г.Куликовский и военврачи В.Г.Миролюбов и И.К.Сабенников. Каждый сформировался как специалист под влиянием преемника Ивана Петровича Павлова – академика Леона Абгаровича Орбели.
Все шесть испытателей, выполнявших прыжки с самолета ДБ-3, имели звание мастера парашютного спорта. Состояние здоровья каждого проверялось врачами перед началом прыжков, да и после каждого очередного повышения скорости. Когда выполнялся прыжок, руководитель группы врачей Куликовский лично наблюдал за парашютистом из кабины стрелка-радиста.

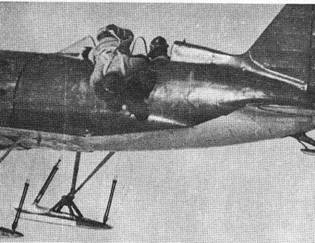
Прыжки В.Ромашока из кабины УТИ-4 на скорости 180 км/ч (вверху) и 300 км/ч (внизу). Февраль 1939 г.
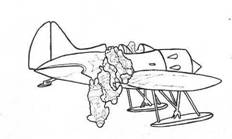

К прыжкам с самолета ДБ-3 были допущены асы парашютизма – Н.Аминтаев, В.Козуля, А.Колосков, О.Макаренко, В.Романюк и П.Федюнин. Каждый выполнил на сборе по 9 прыжков и перешагнул за черту 400 км/ч, а Александр Иванович Колосков и Павел Александрович Федюнин выполнили прыжки на скорости 475 км/ч. Перенесенная Колосковым перегрузка была 16-кратной. Столь высокой величины испытатель добился, явно рискуя. Он выполнил поставленное перед ним задание – раскрыть парашют, едва отделившись от самолета.
Воздавая должное испытателям и авиамедицине, не хочу умалить вклада конструкторов парашютного завода, создавших квадратный спасательный парашют, сохранивший жизни многих летчиков в годы Великой Отечественной войны.
С ростом скорости полета возрастает физическая трудность аварийного спасательного прыжка. Увеличивается также опасность отброса тела летчика на хвостовое оперение самолета.
Февраль 1939 г. Произвожу съемки прыжков Василия Романюка и Виктора Козули из передней и задней кабин УТИ- 4. Сам с камерой на таком же самолете, летящем рядом. Опрыгивать самолет начали на скорости 180 км/ч. При 300 км/ч Романюка отбросило напором воздуха на стабилизатор. От удара его парашют начал самопроизвольно раскрываться, а испытатель получил ушиб, но был доставлен парашютом на покрытую глубоким слоем снега землю.
Кинограммы двух этих прыжков здесь приведены. Кстати, короткая справка: сила скоростного напора воздуха, как известно, пропорциональна квадрату скорости; следовательно, при 300 км/ч она примерно в 2,5 раза больше, чем в первом случае. Опрыгивание боевых самолетов имело благую цель – выработать рекомендации для летного состава на случай аварийного покидания самолета.
Некоторую пользу эти рекомендации, вероятно, принесли. Однако кардинальная идея – привлечь на помощь летчику, который выполняет аварийный парашютный прыжок, некую внешнюю силу, в то время в наших парашютных кругах, насколько мне известно, не будировалась. Советские конструкторы парашютов в последние предвоенные и военные годы были в основном ориентированы на парашюты для воздушно-десантных войск. Первооткрывателями катапультных устройств для летчиков стали немцы, за ними последовали американцы, потом англичане.
Максимилиан САУККЕ Москва
- Рецепты варенья из кабачков с лимоном, с курагой и в ананасовом соке
- Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем
- Сырный суп с курицей и грибами Куриный суп с сыром и грибами
- Четверка монет таро значение
- Что такое договор найма служебного жилого помещения?
- Хлеб по технологии в духовке на дрожжах
- Требования к главному бухгалтеру Нормативное регулирование бухгалтерского учета

 Live Journal
Live Journal Facebook
Facebook Twitter
Twitter